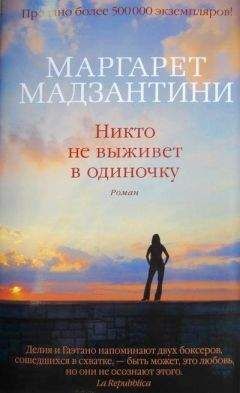Они с Гойко никогда не теряли друг друга из виду. Представляет мне других бывших сараевских жительниц — постаревшие лица моих одногодок. Некоторых узнаю, тогда они были молодыми девушками из общей квартиры, которые перед войной ходили в черных мини-юбках, слушали группу «Р. Е. М.» и боснийский рок и обменивались парнями, желая приобщиться к Европе.
На столе стоят графины с домашними напитками. Мы пьем черничный морс, сидя в креслах-качалках, как две дачницы былых времен.
Ана рассказывает об ассоциации: женщины разных этнических групп после войны объединились, чтобы помогать другим женщинам. Летом они показывают фильмы, организуют фотовыставки, концерты, чтения. Зимой при ассоциации открыты обучающие курсы: компьютерные, языковые, есть танцевальная и музыкальная студии.
Показывает мне очень красивую девушку с длинными черными волосами и белой кожей. Ее зовут Весна.
— Однажды в передаче по телевизору она узнала своего отца среди «мясников» Сребреницы. С тех пор Весна замолчала, за шесть лет не произнесла ни слова. Ее мать, оставив мужа, привела свою немую девочку к нам. В тот день, когда она снова заговорила, мы все плакали, это случилось на берегу, и первое слово, которое она произнесла, было «sidro», в переводе «якорь», поэтому мы назвали нашу ассоциацию «Sidro».
У самого берега стоит дом, построенный из светлых блоков, с красными ставнями, плоской крышей, стоками для дождевой воды и верандой, вокруг которой расставлены низкие вазоны с геранями, искривленными ветром.
— Ну вот, здесь я живу.
Над каменной оградой — неоновая вывеска с надписью «RESTORAN», которая сейчас выключена. Мы заходим с заднего двора, через небольшую деревянную калитку, которую, кажется, никогда не закрывают. Идем по дорожке из бетонных плит. Под навесом с зеленой мягкой черепицей стоят маленький трехколесный велосипед и мопед, выцветший от солнца «пьяджо» с сиденьем, из которого торчат куски пенорезины. Рядом — банки консервов, ящики с водой и пивом и большая почерневшая металлическая бочка.
На бельевой веревке висят детский купальник и сдутый пляжный матрасик. Еще несколько шагов: пустые цветочные горшки, вставленные друг в друга, гипсовая Белоснежка, раскрывающая нам объятия.
Пьетро спрашивает, где семь гномов.
Гойко отвечает, что его дочка не захотела гномов, она терпеть их не может и называет старыми детьми.
На веранде поставлено несколько железных столиков; босоногая девушка с двумя хвостиками, в рубашке из марлевки поверх купальника, крепит зажимы, чтобы скатерти не сдувало ветром.
— Zdravo, Гойко.
— Zdravo, Нина.
Целует, дергает ее за хвостик, просит принести нам чего-нибудь выпить.
Мы садимся на улице, под плетеный навес. Отсюда видно море — голубую полоску, исчезающую в ярком свете солнца. Легкий бриз дует с дюн в спину. Вернувшаяся с подносом девушка выставляет перед нами графин вина, вазочки с оливками, с зеленым сладким перцем, с семечками и банку кока-колы для Пьетро.
Гойко приносит на себе девочку, вцепившуюся в него, как осьминог.
Головой в светлых, почти белых, завитках она уткнулась в тело отца, и, кроме пары ног в махровых полосатых брючках, ничего нельзя увидеть.
— Это Себина.
Гойко не смотрит на меня, но и я не смотрю на него. Уставилась в стол, разглядываю муравья, ползущего по клеенке. Резкая боль, словно ударилась коленкой об острый угол.
— Привет… Себина.
Прикасаюсь к ней, поглаживая ножку. Худенькую, слишком худенькую. Вспоминаю коренастые ноги, состоящие из одних мускулов.
Пьетро пробует немножко пощекотать ее, она отмахивается, отбрыкивается, но лица не показывает.
— Спала… — Гойко садится с дочерью на руках, объясняет, что поэтому она немножко не в настроении, наполняет мне стакан, наливает себе.
Мы выпиваем; девочка, лица которой не видно, разделяет нас.
— Красиво здесь.
— Просто.
Гойко рассказывает о меню ресторана, говорит, что по вечерам они жарят на гриле… он ловит рыбу; если Пьетро хочет, можно вечером отправиться за кальмарами. Кроме того, они сдают несколько комнат неприхотливым туристам.
Пока говорит, не перестает гладить дочь по голове. Мне трудно смотреть на эту тяжелую руку, с жадностью погрузившуюся в светлые кудряшки, очень трудно…
На открытом окне с внутренней стороны колышется белая занавеска… она дышит, надуваясь, словно маленький парус.
Я слежу за этим белым дыханием, несущим покой и умиротворение, внушающим, что время прошло, расставило все по своим местам, принесло другие семена, другие волосы.
Изнутри доносится легкая летняя музыка.
Девочка, оторвав лицо от Гойко, смотрит на Пьетро.
Она совсем не похожа на Себину. В отличие от нее, очень красивая, на кукольном, слегка загорелом лице застыло удивление, прозрачные глаза, надутые губки. У Себины глаза были свинцового цвета, губы кривые, похожие на рыболовные крючки, и уши торчали из-под волос.
Пьетро высовывает язык, двигает бровями и ушами, как его научил дедушка Армандо.
Малышка смеется, у нее нет переднего зуба — выпал вчера вечером, — показывает нам дырку. Она не понимает по-итальянски, но чуть-чуть говорит по-английски. Объясняет, что не знает, где ее зуб, и от этого ей грустно. Пьетро говорит, что, если она хочет, они вместе могут поискать его.
— We go and look for the tooth…[16]
Девочка соскальзывает с коленей отца, подает руку Пьетро, и они уходят. Я смотрю на них, на моего сына и эту вторую Себину, совсем непохожую на уроженку Сараева, скорее, напоминающую голландку или немку… маленькую иностранку.
Сколько лет было бы сегодня Bijeli Biber? Красовалась бы с олимпийской медалью на шее или стала бы заядлой курильщицей, как и ее братец?
Я должна была бы испытывать нежность к этому ребенку. Думала, что расчувствуюсь, но, наоборот, чувствую себя разбитой и даже злой. Может, вино ударило мне в голову, ожесточило сердце. Но у меня ощущение, что эта новая девочка, вторая Себина не станет символом возрождения. Это совсем другой ребенок и другая жизнь. Мне безразлична такая банальная, очень красивая девочка. Хочу вернуть ту несуразную и умную мордашку, ту нищую храбрость. Сегодня мне нравится только то, что я потеряла, чего больше никогда не увижу.
— Правда красивая?
Даже чересчур. Такая же пустая, как и вся жизнь «после».
Внутри дома стоит знакомый мне запах, какой бывает в простых домах на море… запах душицы, чистого белья, миндаля.
По стенам развешены детские рисунки с подписью внизу, «SEBINA», выведенной рукой, только что научившейся писать.