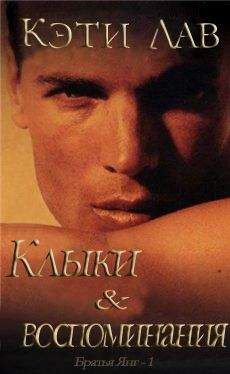Анна любовалась. Из зеркала на нее смотрела девушка с нежнейшим румянцем на фарфоровом личике, с розовыми от природы губами, с блестящими миндалевидными глазами. Ни капли косметики нельзя было обнаружить на этом лице, если только не смотреть уж очень искушенным взором… Анне нравился ее новый облик. Хотя кому на нее смотреть? Но если Музе это доставляет удовольствие… Да еще Милан…
– Я также намерена уделять внимание твоей внутренней красоте, – насмешливо провозглашала Муза. – Главный специалист по таковой – Моцарт!
И они слушали музыку. Впрочем, неправильно было бы сказать, что у них имелся какой-то определенный час для музыки, она в доме звучала постоянно, самая разная. Птичьи трели итальянских опер, грозный гул органа, выматывающие нервы скрипичные вопли. Анна научилась говорить, читать, спать под музыку, музыкой пропитаны были стены старого особняка.
Музыкой и тайнами.
Каждый день после обеда Анна помогала Музе одеться. Для прогулки та одевалась очень тепло и своеобразно, совершенно забывая о красоте и щегольстве, – накручивала на пальто шаль, напяливала шапочку, до носа поднимала воротник, и все это следовало задрапировать пледом, под которым старушку вообще было не видать. Анна ходила с ней на прогулку всегда по одному и тому же маршруту. Сначала они некоторое время стояли на площадке перед крыльцом, потом шли через сад, через парк, по узкой дорожке, расчищенной Миланом. Иногда они его встречали за работой. Изредка Милан оставлял свои занятия и шел рядом. Он все время молчал, на вопросы отвечал жестами: «да» – кивнул, «нет» – покачал головой, «не знаю» – пожал плечами, покривил рот. Анна даже думала, не немой ли он, как Герасим. Только Муму ему не хватало!
Муза никогда не ужинала и компаньонку отучила. Где-то неделю Анне было не по себе, укладываясь, она планировала подкрасться во тьме к холодильнику и стащить что угодно – яблоко, холодную котлету, горсточку маслин. Но совершить поступок в духе незабвенного Васисуалия Лоханкина ей не давали два обстоятельства: во-первых, Муза долго не спала и непременно услышала бы возню на кухне, а потом высмеяла бы ночную обжору самым жестоким образом. Во-вторых, уже через несколько дней стал заметен результат вынужденной диеты, да и попривыкла Анна как-то.
Вместо ужина они читали. Когда мадам Бовари отошла в мир иной, злоупотребив мышьяком, настала очередь госпожи Карениной. Начитавшись до хрипоты, Анна могла наконец-то располагать собственной персоной, но чаще всего ей хватало сил только на то, чтобы дойти до своей комнаты, принять душ и провалиться в сон.
Она спала до странного чутко – это она-то, всегда даже стеснявшаяся особенности крепко и сладко засыпать где бы то ни было: во время лекции на задней парте, в поезде, в общежитии, где всегда кто-то бодрствовал.
Четкий распорядок дня успокаивал нервы. Ежедневные прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание отлично действовали на фигуру и цвет лица. Жизнь понемногу начинала налаживаться, входить в определенную колею. Похоже, в житейской лотерее Анне наконец-то выпал счастливый номер. Ей повезло. Ей не надо больше вставать на рассвете, трястись в промерзшей маршрутке, слушать стоны больных и окрики врачей, ощущать запах крови, гноя, боли, страха, безнадежности. Она успокоилась. Она почти перестала казнить себя за давнюю вину. Нет, горечь не ушла из сердца совершенно. Но выяснилось, что она может быть едва ощутимой.
Анна живет в красивом доме на лоне природы; она – компаньонка знаменитой в прошлом актрисы; она не только приносит пользу, но и хорошо проводит время, а еще зарабатывает нешуточные деньги… Через месяц, впервые получив оговоренную сумму, Анна даже растерялась – особенно от мысли, что ей нет нужды тратить эти деньги, не на что, да и негде. Муза крайне ревниво относилась к попыткам компаньонки выехать в город, хмурилась или того хуже – принимала печальный, жалобный вид, сутулила плечи, ни с того ни с сего начинала кашлять… Одно слово – актриса! И Анна оставалась, не ехала никуда. Ради такого случая Муза считала возможным нарушить привычную рутину и принималась сиделку развлекать – учила ее играть в покер или рассказывала театральные анекдоты, которых помнила целую бездну.
И вот уже миновал январь. Анна при помощи Милана сняла украшения с ели. Кстати, она оказалась ненастоящей, хоть и очень искусно сделанной, даже с шишками и с одной искривленной для достоверности веткой. Ель была разобрана и спрятана в какой-то дальний чулан. Пришел снежный февраль, дороги занесло, один раз даже Милан не смог выехать в город за продуктами и пришлось ждать грейдер, чтобы он расчистил путь, а пока ждали, и свет погас – где-то оборвало провода. Милан включил генератор, и они втроем – Муза, Милан и Анна – сидели на кухне и воображали себя полярниками на зимовке, даже глинтвейн сварили по такому случаю!
На кухне славно пахло пряностями и вином.
– И вот представьте, дети мои, все вокруг только и говорили, что про Северный полюс, про челюскинцев на льдине и про летчика Папанина, который их с этой самой льдины снял. Во дворе мальчишки играли в спасение челюскинцев целыми днями. Несмотря на то что стояло жаркое лето, они кутались в какие-то лапсердаки, приготовленные на отдачу татарину-старьевщику, запрягали в санки дворовых глупых барбосов и с жутким скрежетом таскали эти санки по асфальту. А у нас во дворе был самолет, сделанный из фанеры, и вот возле него происходили чудовищные побоища. Так выясняли, кому изображать Папанина. А я была пацанка, отчаянная, всегда играла с мальчишками, и вот как-то мне случилось получить эту роль, первую и главнейшую роль в моей жизни. Впрочем, уверена, что получила я ее не за талант, а за то, что владела ценным реквизитом – настоящим летным шлемом, отцовским. Мальчишки лебезили передо мной в надежде, что я позволю хотя бы примерить этот чудесный шлем, но я никому его не давала. Началась война, шлем поехал с нами в эвакуацию, и на первой же станции, пока мать покупала молоко и вареную картошку, наши чемоданы украли. Осталось то, что было на нас надето, и шлем, я с ним не расставалась, он лежал у меня в сумке через плечо. В нем я и отходила все эвакуационные зимы подряд, а зимы были страшные, не чета этой…
Анна слушала и ушам своим не верила. Челюскин? Папанин? Война, эвакуация? Так когда это все было! И сколько же Музе лет? И как она умудрилась так превосходно сохраниться, особенно если учесть, что жизнь ее полна была страшных испытаний?
Она хотела задать этот вопрос, но не решилась при Милане, хотя уже начала привыкать к нему, к его спокойному лицу и сумрачной веселости. Он избегал встречаться с ней взглядом, и Анна даже не знала цвета его глаз, но думала, что они, должно быть, голубые, ясно-голубые, как небо в сильный мороз, и что Милан, наверное, очень добр и застенчив, какими часто бывают большие мужчины. Как вот, например, был…