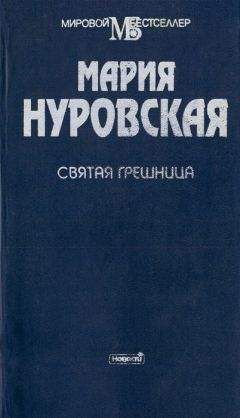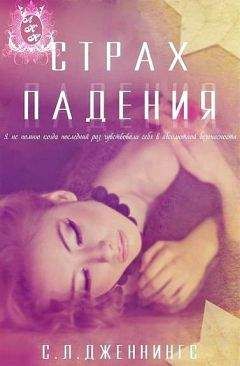И снова дым над Варшавой… Может быть, это было возмездием за ту нормальную жизнь, когда рядом, за Стеной, умирало гетто. За беззаботные улыбки девушек, за сплетничающих за чашкой кофе женщин, за конспираторов-мужчин в длинных сапогах, которым не приходило в голову объединиться с теми, что были тогда за Стеной. Вероятно, теперь я тоже помолилась бы о легкой смерти для восставших, если бы там не было тебя. Но ты был там. День за днем я вслушивалась в новости, которые люди передавали друг другу, а ночами вместе с седым доктором мы ловили Лондон. Но вести были более чем скупыми. В это время я не могла выдержать покоя деревенской жизни, меня раздражал размеренный порядок, царивший в этом доме. Муж пани Цехны вел обычную врачебную практику. Пациенты приходили к нему домой, а иногда ночью его вызывали к больному. Несколько дней у нас на чердаке лежал раненый партизан. Мы скрывали его от Михала, чтобы мальчик случайно не проговорился. Он носился с деревенскими детьми, я ему разрешала, хотя пани Цехна кривилась. Однако все же смирилась с тем, что я принимаю все решения, связанные с воспитанием твоего сына. Она даже спросила, кем я вам прихожусь. Я ответила, что другом семьи. Для нее это показалось маловато.
— Вы дружили с Марысей?
— Нет, с бабушкой Михала, — ответила я, уже зная, что Марыся — это твоя жена.
Она тут же просияла и стала рассказывать о твоих родителях. Я охотно слушала ее. Узнала, что твой отец и дед были врачами и что ты пошел по их стопам — стал кардиологом. Сердечным доктором. Мне казалось это прекрасным. Тебе предрекали блестящую карьеру в клинике. Когда началась война, ты был любимым ассистентом профессора Косовича. Мой отец у него лечился…
— Распалась семья, словно кто дунул на молоко, — печально рассказывала пани Цехна. — Отец Анджея погиб в начале войны. Алинка пошла за ним, Марыся в Освенциме…
В установленный час мы собирались к обеду. Доктор в своем неизменном жилете, со спинкой из полосатого блестящего материала, пани Цехна — в традиционном фартуке на бретельках. Она вносила супницу, а муж серебряной ложкой с благоговением разливал суп в тарелки. Он делал это с таким трепетом, как будто от того, прольет ли он хоть капельку, зависели судьбы мира. Потом было второе, а на десерт — домашний пирог. В любое время года по воскресеньям подавался пирог со свежей вишней. В крайнем случае, с вишневым вареньем. То, что война еще продолжается, что в десятке километров отсюда умирает одна из европейских столиц, — ничто, казалось, не могло поколебать эту традицию.
Чтобы не сойти от всего с ума, я возобновила свои уроки. Моим учеником был Михал. Один день мы занимались английским, другой — французским и говорили только на языке. Семья доктора поглядывала на нас с удивлением, в особенности пани Цехна.
— И что, он правда говорит по-английски, — спрашивала она, — или выдумывает?
— Правда, — отвечала я.
— Как будто у него рот забит клецками, — с недоверием говорила она.
В доме было всего три книжки и то одного автора — Стефана Жеромского: «Сизифов труд», «Прах», «История греха». Я удивлялась, откуда у них последняя. Не могла себе представить выражения лица пани Цехны, когда та читала о судьбе Эвы Побратымской. Другое дело я… Достаточно было кому-то произнести на первый взгляд вполне невинные слова «номер» или «гость», в моей голове зажигался красный свет. Я внимательно вникала в контекст, как будто он был предназначен специально для меня. Если бы меня спросили, как это может быть, я не смогла бы ответить. А зачем я издевалась над отцом? Мстила ему за то, кем стала? Не отец же посылал меня к гостям проделывать быстрый жалкий «номер». Они приносили мне «вдовий грош», как называла его Вера. Мне казалось бессмысленным и даже кощунственным это название — ведь оно относилось к женщинам. Плата взималась за каждые пятнадцать минут, поэтому мы должны были спешить. От кого отнимали эти люди свои гроши — от жен, от детей? Смерть, стоящая за спинами, заставляла их в последнюю минуту пережить что-то из ускользающей жизни, успеть схватить это только для себя. Глаза на впалых лицах мужчин горели лихорадочным огнем. Так же горели и мои глаза. Значит, мы были там как одна семья, а в семье все можно. Мы были заражены одной болезнью — смертью. В моем воображении она представлялась как безносое лицо сифилитика, которое потом превращалось в лицо клоуна. На следующее утро мои «гости» прямо с плаца уходили в газовые камеры, умирали от тифа, падали без сознания на улице.
Как-то я возвращалась домой с работы. Кругом никого не было. Вдруг заметила неясный силуэт человека, который шел навстречу. Это оказался мужчина. За несколько шагов до меня он опустился на колени, и я раздраженно подумала, что сейчас начнет что-нибудь клянчить. Но неожиданно он обмяк и рухнул лицом вниз, а потом перевернулся на спину. И я увидела изможденное заросшее лицо, глубоко впавшие глаза и улыбку с оскалом. Я хорошо знала эту улыбку, нередко приходилось видеть ее на лицах моих клиентов…
Эта трехтомная деревенская библиотека размещалась в шкафу за стеклом, рядом с разными безделушками. Сначала названия книг не произвели на меня впечатления. Но однажды ночью, когда не спалось, я подумала о том, что «История греха» в этом доме, где я выступала в фальшивой роли под фальшивым именем, очень даже на месте. Это был знак моей судьбы. Она ждет, она меня не забывает. Я чувствовала, наша история не окончена и ты еще появишься. Ты жив. Должен жить. Только раз промелькнула мысль: в случае чего хоть Михал останется со мной. Но сама же испугалась этой мысли.
Однажды проснулась от ощущения, что ты где-то поблизости. Было пять утра. Все вокруг покрыл снег, поэтому, несмотря на темноту, в саду было чуть светлее. Я увидела расплывчатый силуэт и поняла: это ты. Набросив тулуп, выскочила во двор и, обогнув дом, побежала в сад. Ты приближался — и через минуту уже держал меня в объятиях.
— Кристина, — услышала я твой срывающийся голос.
От волнения я не могла вымолвить ни слова.
Ты целовал мне лицо, волосы. Заметив, что я стою босиком, поднял на руки и отнес в дом. Еще никто не просыпался. Мы тихонько поднялись наверх. Михал спал, развалившись, занимая все пространство кровати. Ты склонился над ним, потом обернулся ко мне. Я увидела твое исхудавшее, покрытое светлой щетиной лицо.
— Кристина, — прошептал ты. Мы снова были рядом. Ты целовал меня, взяв в ладони мое лицо. Столько чувств выражал этот жест! По моим щекам потекли слезы. Ты нежно вытирал их пальцами.
— Прошу тебя, не плачь. Я не хочу, чтобы ты плакала.
Потом мы спустились вниз. Я с трудом развела огонь, поставила воду для чая. Мы сидели за столом напротив друг друга, передо мной было твое лицо.