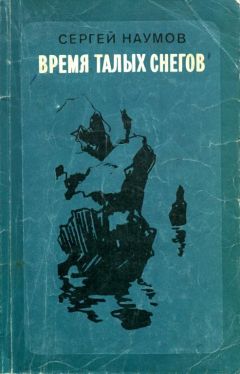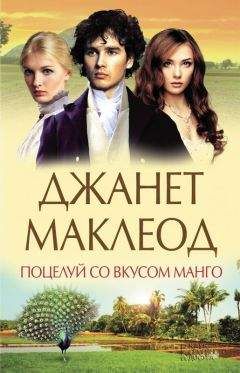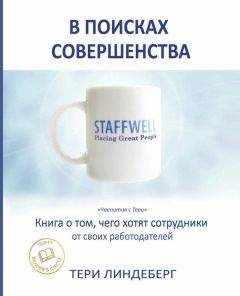Последние слова догнали меня уже на втором этаже.
Здесь было даже еще темнее, чем в подлестничном коридоре. К тому же никаких номеров на дверях я не заметила.
Зато я услышала ГОЛОСА! Дверь в одну из комнат была открыта. Густые клубы табачного дыма выплывали в коридор. Держась за сердце, я на цыпочках подобралась к источнику никотинового зловония.
— Кости, кости, одни кости! А где же мясо? Голый сюжет, абсолютно голый! Это даже как-то, я не знаю… неприлично! — возмущался кто-то.
— Н-ничего подобного! Н-ни-че-го! Это просто телеграфный стиль. Мы не в девятнадцатом веке — але, проснитесь, сударь! — убеждал в ответ другой.
— Да невкусно это, пойми же ты, невкусно! — настаивал первый голос.
— Слушай, пойдем на угол, я тебе чизбургер куплю. Или даже бигмак, черт с тобой! Сожри и успокойся! — горячился второй.
— А может, порнушки добавить? Пару сценок. Кашу маслом не испортишь! — примирительно предложил новый голос.
— Достал уже ты, Виталь, со своей порнушкой!
— Друзья! Вспомним Лао-цзы…
— И ты достал со своим Лао-цзы!
— Невкусно ему! Повесть — это тебе не закусочная, обжора!
— А роман — не ресторан.
При словах «повесть» и «роман» внутри у меня что-то сладко вздрогнуло, и я на мгновение перестала следить за нитью разговора. А когда пришла в себя, там уже не говорили, а кричали, перебивая друг друга:
— И не надо! Не надо пугать людей постмодерном! Не надо вешать ярлыки!
— Но ведь не все, что правда в жизни, правда и в искусстве!
— Вот именно! Вспомните Дали! Почему ему было можно все, а нам ничего?!
— Потому что существуют законы жанра, за-ко-ны жан-ра!!
— Я, значит, нарушитель законов! Я преступник! А вы кто? Менты?!
— Друзья! Не надо так горячиться. Вспомните Карлоса Кастанеду! Чувство собственной важности отнимает у человека…
— Я тебя убью с твоим Кастанедой!!
Из комнаты вдруг выбежал человек и промчался мимо меня, размахивая зеленой папкой. По лестнице гулко загрохотали его шаги. И все здание вздрогнуло — то ли он налетел на столик с медитирующим, решила я, то ли сорвал с петель запертую парадную дверь.
Следом из комнаты выскочили еще двое, озабоченно прислушиваясь.
— Ушел? — спросил меня один из них, словно не доверяя собственным органам чувств.
Я виновато кивнула. Вышедшие переглянулись и симметрично покачали головами.
— Попьем компот, — вздохнул один.
Другой хохотнул.
После этого они одновременно повернулись ко мне, и я заметила, что обоим, как пишут выпускники в сочинениях, художникам слова еще довольно-таки далеко до преклонных лет.
— А вы, девушка, к кому?
— К писателям, — с достоинством ответила я и идиотски хихикнула.
Все мало-мальски интересные мужчины, встреченные мною в жизни, всегда подразделялись на недосягаемых и ухажеров. Недосягаемые — они и были недосягаемые: по уму, красоте, спортивным достижениям и разным другим ярко выраженным достоинствам. К этой же категории относились симпатичные врачи, преподаватели в институте, артист Павел Кадочников в молодости и три певца, три Валерия — Леонтьев, Сюткин и Меладзе. (Чужие мужья, надо заметить, образовывали как бы отдельную, слегка обиженную судьбой группу — что-то вроде заключенных на пожизненные сроки.) Ухажеры же, как было отмечено выше, по какому-то несчастью попадались мне все как один с незначительными, однако досадными изъянами. А может быть, просто ни один не встретился со мной, как художественно выразилась однажды Людасик, в мой «бабий час».
Писатели же — ЖИВЫЕ! НАСТОЯЩИЕ ПИСАТЕЛИ! подумать только! — по определению недосягаемые, как-то, похоже, вообще не чувствовали себя мужчинами. По крайней мере некоторые из них сидели верхом на стульях вокруг длинного стола, а некоторые — на этом самом столе.
Были, кстати, среди них и женщины, одна даже довольно молодая; и какой-то, как впоследствии выяснилось, поэт бесцеремонно спихнул ее со стола с ласковым восклицанием: «Уйди, чмо!», перед тем как начать читать стихи.
Еще один писатель — поэт или прозаик, выяснить не удалось, — одетый в коричневый костюм-тройку и белую рубашку, сидел в углу совершенно молча и не отрываясь разглядывал свои ботинки, шнурки которых были почему-то завязаны вокруг щиколоток. В этом было даже что-то пугающее! Остальные, впрочем, не обращали на него ни малейшего внимания и вели себя исключительно активно, напоминая детей на линейке в день последнего звонка.
И разговаривали в том же духе.
— Наша задача — освещать путь человеческим душам! — величественно возглашал какой-то седобородый патриарх, но его свирепо обрывали:
— Опять за свое, Иваныч?! Опять за судьбы России?!
— Про блоху! Давай лучше про блоху!
— Да, наша задача — пробиться к читателю! А читатель нынче пошел привередливый. Ему глянцевую обложку подай, на обложке секс-символ…
— Ты опух, что ли, Виталь?! На обложке литературного журнала!
— Ой, подумаешь! Ну, пускай причинное место книжкой прикрывает. А куда ж от физиологии денешься?
— А САМ что на это скажет, ты подумал?
— Иваныч! Блоху!
— Спасибо скажет! А что ему еще говорить, когда народ ПОПРЕТСЯ? И хорошо бы тематическую рубрику типа «Откровенно о сокровенном»…
— Нет, он издевается! Через месяц рукопись номера нести, а у нас ни пародий, ни вообще нормальных стихов! ЖЕПА с верлибрами, и все.
— Спасибо на добром слове. ЖЕПА!
— Метелкина, это ж я не про тебя, а вообще… Из серьезной прозы одна мистика.
— Так давайте Федькин роман! Пускай хоть в сокращении. Ну, само собой, добавить пару сценок в спальне. Героиня в припадке эпилепсии отдается врачу! И выздоравливает!
— Виталь, у нас не порножурнал… А кстати, когда обещала прийти художница?
— В конце обязательно надо литературные игры. Акростихи, буриме и вся фигня.
— «Раз с Проспером Мериме мы играли в буриме. Оказалось, Мериме в буриме ни бэ, ни мэ!»
— Героиня излечивается от эпилепсии, но не может унять страсть к врачу! И муж прощает ее! И они живут втроем!
— Не-ет, я его сейчас убью…
— Жила под лестницей блоха!
— Ну и где? Где эта чертова художница?! Или зовите опять Томку, тянуть некуда!
Не прошло и получаса, как голова моя доверху переполнилась рубриками, верлибрами, акростихами, буриме, цитатами из классиков и философов и в конце концов решительно отказалась выполнять какие-либо аналитические процессы. Кажется, я пыталась вклиниться в разговор и представиться. Кажется, меня перебивали. Кажется, задавали бессмысленные вопросы.
Навеки осталось загадкой, каким образом оказались в моей сумке две крохотные книжечки стихов, подписанные одна «Мариночке, с любовью!», а другая почему-то «Прозаику от Бога» — очевидно, кто-то (Бог?!) принял меня за прозаика!