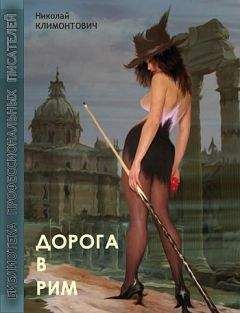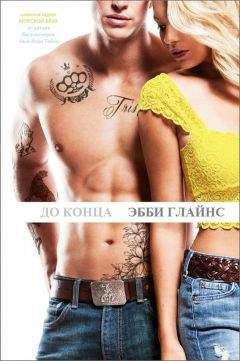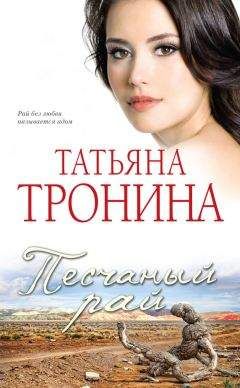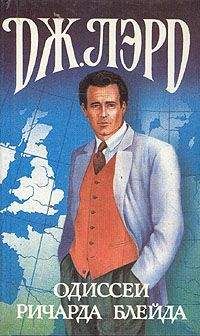Деньги Витольд добывал просто — крутился на крутящихся, так это тогда называлось, а попросту занимался самым незатейливым рэкетом: подходил к комку на Восстания, где позже был магазин «Кабул», у первого попавшегося спекулянта брал из рук любую вещь, выжидал паузу, а потом спокойно предлагал — купи, недорого, двести рублей. И не было случая, чтоб не покупали. Самое поразительное, что Витольд и жил, и работал один, за ним никто не стоял, абсолютно, что не могло прийти в голову потерпевшим, иначе тому не сносить бы своей, — некому было его отмазать и прийти на выручку, он рассчитывал только на свои силы — всегда, что же удивительного, если рано или поздно, но он проиграл.
В кабаках, куда он меня таскал за собой, платил всегда он, не могло быть и разговоров, и, чтобы как-то ответить ему, я привел его как-то в дом одного знакомого, бывшего комсомольского поэта, которому я прощал, впрочем, его великовозрастную дурость за трогательное бескорыстно-преданное отношение к Литературе. Поэт собирал у себя пеструю компанию сочинительствующих, преимущественно графоманов, но бывали там и люди одаренные, что не странно, в те глухие годы некуда было податься, вот и сбивались в кучу, и некоторые из тогдашних посетителей с крушением большевиков всплыли-таки на поверхность, вынырнули на свет Божий — кто в толстых журналах, а кто и в парламенте. Витольд там читал стихи.
Я слышал тогда эти стихи в первый и последний раз, не поручусь, что принадлежали они именно Витольду, а не его соседу по нарам, но были они вывезены из зоны, это точно, и мне припоминается жалостливый стих про голодную лагерную дворнягу, которую нечуткие люди — не уточнялось, из зэков или из охраны, — часами заставляют стоять на задних лапах, держа на носу кусок ароматной колбасы. Жестом мэтра снимая и водружая на место очки, устало потирая переносицу, поэт, не ведавший, конечно, кто его гость, стал учинять профессиональный разбор услышанного, и надо было видеть, с каким беззлобным спокойствием слушал его Витольд, глядя бурыми своими глазами из глубин своего темного опыта на это чучело гороховое, рассуждавшее, шмыгая носом, о рифмах и аллитерации. Сцена отпечаталась в моей памяти именно наглядностью неисповедимости путей человеческих, неисповедимости и многообразия путей, ведущих всех нас, в сущности, к одному и тому же…
Зал действительно был невелик, человек на двести, и когда мы воссели за оставленный специально за Витольдом большой стол, уставленный закусками, и я огляделся, то понял, что сегодня здесь гуляет элита системы, те люди, при появлении которых начинают шушукаться за столиками дешевых кабаков на Калининском: богатый валютчик Гамлет, причем сам факт, что это было его настоящее имя, говорил об авторитете, ибо очень немногие в этом мире могли обойтись без кликухи; сорокалетняя гречанка по кличке Линтата, мамочка центровых проституток, сводница, бандерша и гадалка, вся в золоте и с большим декольте; целый букет зеленок, в центре которых блистала яркой цыганской красотой знаменитая в те годы в центре Шу-Шу, полностью — Шура Шаровая, в черном платье с открытыми плечами, только что без розы в черных волосах, — вокруг баб порхали армянского вида юноши в длинных блестящих, как у иллюзионистов, пиджаках с громадными отворотами; была здесь и Лида Ш., с которой я был тогда еще не знаком, но о которой слышал многие интриговавшие меня истории. Играл оркестр, кем-то выписанный и оплаченный, ибо в обычные дни музыка была только в большом зале, пела певичка — какие-то тогдашние шлягеры вроде сладку ягоду ели вместе, горьку ягоду я одна, — причем помимо игривости ей удавалось вместить в песню и ноту глубокой блатной тоски, так что становилось неясно — о беременности в конечном итоге идет речь или о сроке, что дал героине народный суд. И все вместе — водочка, льющаяся по столам, кабацкая хрипотца чувственного женского голоса полуголой певички, ударная установка, исторгающая громы и звон, расфуфыренная и распаренная публика, размалеванные девицы с поплывшей уже краской и размазанными хмельными улыбками, красные мужские лица — все уж сочилось алкогольно-сексуальным угаром.
Витольд изредка кивал кому-то, иногда даже приподнимал в приветствии тяжелую, испещренную татуировкой руку, но ни веселье, ни алкоголь не брали его, он — я неоднократно уже наблюдал это — лишь замыкался и сжимался внутри, не пьянея, и чувствовалось почти физически, если находиться рядом, как со дна его души медленно поднималась муть, ядовитая смесь горечи, обиды и злобы, от которой душно становилось ему самому. Это создавало вокруг него физически ощутимое поле, и не всякий решился бы в это поле ступить. А сам он пока никого не звал, коротко опрокидывал рюмку за рюмкой, молча, но не забывая каждый раз со мной чокнуться: давай.
Впрочем, вглядываясь в толпу танцующих, я все разыскивал глазами Ш., мечтая, чтоб она подошла к нашему столику, — я знал, что они с Витольдом накоротке. Но посетила нас внезапно — Шу-Шу, причем держала себя с той фамильярностью, что позволяют себе секретарши с шефом, переспав с ним, но вовремя не поставленные на место. Она не была пьяна, но под хмельком, конечно, и попыталась даже сесть к Витольду на колени, но он довольно грубо пихнул ее на соседний стул. Впрочем, она была неглупа, хитра и сообразительна, другие, собственно, и не удерживались на ее-то работе, требовавшей бесконечного лавирования между швейцарами интуристовских отелей, клиентами и топтунами из КГБ. Она была бы безукоризненно красива, если б не особое, такое же, как у Шоколада, брезгливо-вульгарное выражение алчного рта — печать порока, выражаясь приподнято, — чрезмерно бросающееся в глаза. Я не прислушивался к их разговору, изыскивая в себе резервы храбрости, чтобы пригласить на танец Лиду самому — впрочем, я не был уверен в том, как отнесется к такому ухаживанию ее конвой, Витольд да и она сама, хоть последнее у меня вызывало меньше всего тревоги, — как услышал неприятную ноту в тоне Витольда. И резкий ответ Шу-Шу, с оглядкой на меня:
— Монгол, о таких вещах вслух молчать надо!
— Я ей напомнил, — сказал Витольд, когда Шу-Шу отошла, — как мы месяц назад с корешом ее на пару харили. — Это было не в его духе, об интимных делах он в принципе не распространялся, да и вообще говорил мало. Я понял, что он на взводе. Я вспомнил, что рассказывала про его художества Танька: как он ни с того ни с сего мог войти в незнакомый подъезд и приняться лупить по железной двери лифта: вставайте, идиоты, вас же имеют! — был диссидентом своего рода. Но здесь-то он, кажется, был среди своих, впрочем — кто из нас может сказать, где у него свои? Сейчас он уперся взглядом в затылок парня, сидевшего вдалеке от нас, спиной к проходу и танцующим, и я тоже посмотрел туда: ничем не примечательный затылок.