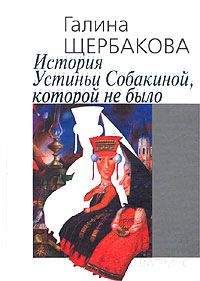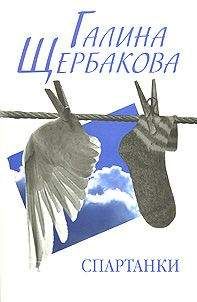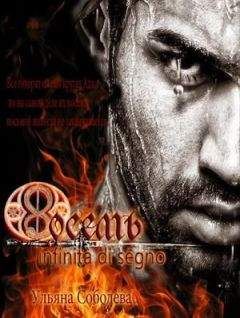– Какой прокат? – закричал Прохоров. – Ты, может, думаешь, что приехала в сраную Америку?
– Ну не прокат. Есть у тебя какая-нибудь еле-еле машинка, я прокачусь и верну ее через пару дней.
– Сколько дашь? – спросил Прохоров.
– Откуда у бедной аспирантки деньги? – запричитала Дита. – Я пришла по школьному братству.
Была опасность, что Прохоров уже слышал про продажу квартиры, земля слухами уже не полнится, а, можно сказать, почти ими захлебнулась, но Прохоров не слышал, а на школьное братство он положил навсегда и с большим привесом. Так и сказал.
– Ну, Прохор, ну зараза! Ну, войди в положение, – теребила его Дита. И, видимо, сильно теребила, потому как посмотрел Прохор на тонкие ноги в брюках из фальшака, на широкий резиновый пояс, которому надлежало обозначать талию, и, не подымая глаз выше, предложил очень конкретно перепихнуться в красном «жигуленке», который оставил на срок хозяин, уехал в командировку за границу, ну, и если она «по братству или почему там у тебя, даст ему хорошо и конкретно, то красномордый «жигуль» будет ее на два дня.
Это было еще лучше, чем она думала. Та подлая история с гениальным Вовкой, смотрящим на нее разными глазами, сидела в ней не занозой – камнем, остряком, поэтому, глядя в наглые и пустые глаза Прохорова, она сказала:
– Делов, парень!
«Жигуль» получила Дита Синицына, весьма и весьма удовлетворенная случившимся действом, а Прохоров проверил машинку, «как для себя», дал на случай крюка при плохой дороге дополнительно бензина, он только не спросил, есть ли у одноклассницы права.
Прав не было.
Машину Дита научилась водить на первом курсе для понта. Заплатила немного – гонорар от автора за рецензию на какой-то поэтический его сборник. Вот эти деньги и пошли на курсы. Но на экзамен уже их не хватило. Поэтому, что нажать и куда крутнуть, она знала. Ехать собиралась по безлюдной дороге и, даст Бог, недолго.
Мать влезла в машину даже весело. Эта чужая девушка в черных обтяжных штанах обвезет ее по городу и всем покажет. И пусть все обзавидуются, что дворничиху катают, как барыню.
В машине мать потеряла ощущение и времени, и пространства. То спала с открытым ртом, высвистывая странную мелодию сквозь гнилые пенечки зубов, то открывала глаза и кричала: «Ветер! Ветер!», высовывая руку в окно. К дочери она обращалась на «вы» и просила ее обязательно рассказать Диточке, как она катала ее на большой-большой машине. Она объясняла дочери, что Диточка живет в большом городе и учится на ученую. «Ишо молодая, не как вы, моложее будет. У нее таких штанов нет. Она у меня скромная, все больше в ситчике».
Уже долго ехали по степи, и Дита все еще не знала конца пути, просто знала: надо ехать и все, когда мать сказала, что ей хочется по-маленькому. Впереди виднелась деревенька. Справа, в низине, паслось стадо. Дита прирулила к обрывчику у дороги.
– Ну, сходи, бабуля, – сказала она матери. Помогла вылезти. «Писай вниз, на дороге неудобно». Мать присела. Привычно стянула широкие на все погоды рейтузы. Дита смотрела в спину матери, лопатки торчали грубо, огромно, а головенка свисала по-курячьи слабо и беззащитно. «Куда я ее везу?» – спросила она себя вслух. Ведь куда-то она ее везла, имела замысел. Какой? Прилетел бы что ли коршун и подхватил бы мать за торчащие лопатки, и унес бы далеко-далеко, она бы помахала ей вслед, ведь и машина, и дорога – это все было способом исчезнуть матери. Но та продолжала сидеть на корточках, по-детски расставив ноги, и журчала, как ручеек. От неумения сделать то, что надо, и решить все сразу, от отчаяния Дита изо всей силы хлопнула дверцей машины.
Откуда ей было знать про ужас матери, который продолжал жить в ней со времени войны, когда она тыкалась от грохота головенкой сначала в живые животы людей, потом в мертвые, а потом вообще в любую мягкость – сена ли, земли, а то и просто вонючего тряпья. И тут этот стук-грохот, который ее накрыл, и надо было спасаться снова, и она нырнула вниз, где – чувствовала – должно быть мягко. В мягкости спасение, больше ни в чем. Таким был голос детства. А только он в ней и остался. Она кувыркнулась вниз в травушку-муравушку и замерла не от смерти, а от причудливости жизни: это ж надо, мочилась с горки, раздался стук, она его поняла и оказалась во влажном стожке. Она смотрела в небо с удивлением и непониманием происшедшего. И додумалась, что только-только родилась – выскользнула из самой себя.
Дита спустилась вниз. Мать была недвижна и смотрела в небо широко открытыми фиолетовыми глазами. Откуда этот фиолет, в котором помещались облака? У матери серенькие мышачьи глазки-щелочки, а тут не глаза – а озера. В траве недвижно лежала чужая женщина. Абсолютно не мать. И Дита почти спокойно вернулась к машине.
Мать же к вечеру поползет на голоса коров и собак, уже не помня ни машины, ни той, что ее везла, ни кто она, ни что. Помнила только струю, что стащила ее с горки вниз. Значит, точно – роды. Вот доползет до коров, взрослые люди обмоют ее и дадут ей имя.
* * *
Феня заметила пастуха, когда он перемахивал через грязь дороги к их забору. Она вихрем вылетела во двор, не дожидаясь стука пастушьей палки по доскам.
– Сгуляла, наконец, твоя Розка, – крикнул пастух. – Раз сто небось присела за день. Распечаталась. Борька аж взмок.
Феня тут же развернулась в хату и вернулась с припасенной чекушкой, которую прятала от своего Пети в кармане собственной фуфайки для черных работ.
– Ты следил по-честному? – спросила Феня у пастуха. – Катька Петровых тоже комолая и рыжая.
– А то я не знаю Катьку! – возмутился пастух. – Она ж некрасивая, вислая. А твоя красавица, целочка. Сам бы трахнул, да уже не догнать. – Он гоготнул и спрятал чекушку в задний карман стеганых и отполированных, можно сказать, до кожаного вида грязных штанов и повторил, что все без обману, какое теперь стадо, слепой уследит – два десятка коз и половина уже «с товаром», остались малолетки, Катька да ее вот, Фенькина, бесплода.
– Слава тебе Господи! – вздохнула Феня. – Не случись, так пустили бы осенью под нож. Толку?
Она напоила Розку, ткнулась лицом в лобастую твердую морду и повела в сарайку – горе, а не хлев, надо теперь думать, как его утеплить и расширить к зиме.
Феня открыла хлипкую дырявую дверку, пригнулась, чтоб войти и, если не померла сразу, то исключительно благодаря крепости тела, еще молодого и не стравленного медициной. Феня лечилась домашним, а то и просто волей: что ж я соплю не победю или, там, понос? Потому и выдержала то, что увидела. В Розкином углу лежала старушка-недомерок, не мертвая, живая, потому как смотрела Фене прямо в зрачки, и это-то и было самым страшным. Чужая бабка, не местная, не пьяная, трезво и приказательно смотрела в Фенины каренькие глазоньки с пятью ресничками: три росли справа, две – слева. Ресницы ей выдирал старший брат, оскорбленный рождением девчонки. За эти дела был он избит до полусмерти, едва оклемался, ну, и какие уж там могли быть между ними отношения? Ненавидели друг друга, как русский фашиста. И Феня, если не врать, даже рада была, что его убило в Афгане.