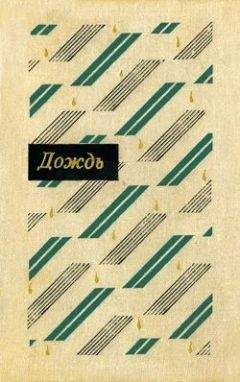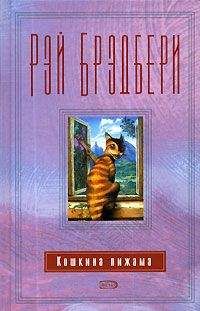Эллисон тихо запаниковала. И каким же образом она могла рассказать Роланду, что была любовницей миллиардера шесть лет теперь, когда узнала, что он монах?
— Ничего интересного, — сказала она, отмахиваясь от вопроса настолько беспечно, насколько могла. — Я не была монахиней, это наверняка.
Роланд отстал и снова сел, а Эллисон почти протянула руку, чтобы стряхнуть песок со спины. Но она не трогала его, даже не хотела. Теперь все было иначе. У него может быть лицо, и глаза ее старшего брата, и его улыбка, но этот человек, сидящий рядом с ней, был ей совершенно незнаком. Несколько минут назад она пыталась ударить его, и он поймал ее за руку — как когда они были детьми. И он напал на нее и сделал вид, что бросил ее в воду — как когда они были детьми. Но он играл роль Старого Роланда для нее, а она играла роль Старой Эллисон для него. Это могло бы сработать, за исключением того, что ни один из них не был очень хорошим актером. Она сделала ошибку, вернувшись сюда. Она совершила ужасную ошибку. Она поняла, что приехала домой, чтобы найти свою старую семью, но ее старая семья больше не жила здесь.
Она была здесь совершенно одна, как и после ухода МакКуина.
Она проделала весь этот путь зря.
— Ну, — произнесла Эллисон, вставая и театрально стряхивая песок с одежды. — Мне пора бежать.
— Эллисон?
— Уже поздно. Я не хотела задерживаться так надолго.
— Ты правда не останешься тут? — спросил он. — Даже на одну ночь?
— Туристический сезон закончился. Я легко смогу найти отель. — Эллисон встала и смахнула песок с брюк. — Я переночую в «Астории», а завтра утром заеду в больницу.
— Хочешь снова увидеть дом перед тем, как уедешь? — задал вопрос он.
Из-за него, из-за боли, которую он пытался скрыть, она решила согласиться.
— Хорошо, — сказала она. — Будет приятно еще раз увидеть дом.
В тишине они вернулись на веранду и у входной двери сняли обувь и носки, выпачканные в песке, поставив их на полку в коридоре. Она повесила и куртку и увидела ветровки и вьетнамки, зонтики и тяжелые зимние пальто. Что-то для каждого сезона на побережье. Роланд стянул свою покрытую песком фланелевую рубашку в клетку и повесил на крючок. Под рубашкой его сильные плечи обнимала простая белая футболка. Она улыбнулась себе, увидев это.
— Что? — спросил Роланд.
— Что делает монах с такими большими плечами, как у тебя?
Роланд рассмеялся, почти покраснел, скромный, как монах.
— На своих плечах мы несем мирские заботы, — ответил он. — Это наша версия силовой тренировки.
Роланд открыл дверь в дом и сказал: — После тебя.
Она помедлила прежде, чем войти, недолго, но Роланд заметил.
— Не переживай, — успокоил он. — Дома никого нет.
— Прости. Это так странно возвращаться сюда, — объяснила она. — Прошло так много времени.
Она не боялась Роланда, хотя он был теперь чужим. И не боялась никого, кто мог прятаться в тени, готовый выпрыгнуть и сбросить ее вниз по лестнице. Что ее действительно напугало, так это боль в груди, боль от желания увидеть этот дом, свою семью.
Эллисон осторожно шагнула через дверь в фойе. Оглянувшись вокруг, она увидела, что мало что изменилось с ее уезда. Там была комната-солярий с окнами от пола до потолка. И она увидела тот же длинный стол из черного дерева с деревянными скамьями в столовой — идеальный стол для семьи из восьми человек. Роланд провел ее по коридору, и девушка увидела кухню, которая была очень похожа на ту из ее воспоминаний, за исключением того, что в ее дни стены были желтыми, а теперь они были выкрашены в красный цвет. Большая кухня. Семейная кухня. Не модно. Не формально. На холодильнике еще висели рисунки. Эллисон подошла, чтобы осмотреть их. Один рисунок был изображен из серии ярко раскрашенных рыб с человеческими прическами. У рыбы Роланда были длинные светлые волосы, у рыбы отца были коричневые волнистые волосы и серая борода, у рыбы Дикона были черные волосы, торчащие во всех направлениях, а у рыбы Торы были волнистые волосы цвета заходящего солнца. В нижней части страницы детской рукой было написано Фишпелло.
— Это нарисовала я, — вспомнила Эллисон, глядя на рыбу Эллисон с кудрявыми каштановыми волосами. — Мне было… девять? Восемь?
— Около того, — сказал Роланд. — Хотя мои волосы никогда не были такими длинными. Ты заставила меня выглядеть, как Бон Джови. Я имею в виду, если бы он был рыбой.
— Нет ничего плохого в том, чтобы выглядеть, как Бон Джови, — заметила она. Девушка добавила к рисунку то, как прошли годы, и дети вернулись домой и остались. У Оливера была светлая стрижка под горшок, поэтому Эллисон нарисовала его с рыбьим «горшком» на голове, а бисерные косички Кендры она сделала радужными полосками. Даже кот, Картофель О'Брайен, получил угощение от Фишпелло. Он, разумеется, был зубаткой полосатой.
— Ты похожа на себя, — заметил Роланд. — У тебя милые надутые рыбьи губы. — Он сгримасничал, передразнивая ее довольно полную нижнюю губу. МакКуин тоже был фанатом ее губ бантиком.
Эллисон наполовину рассмеялась, наполовину застонала.
— Я поверить не могу, что он еще на холодильнике. Такая глупость.
— Папа считал, что это самая милая вещь на свете. Он скучал по тебе, знаешь, — сказал Роланд. — Мы все по тебе скучали.
— Я тоже, — произнесла она тихо. — Не осознавала, насколько, пока не получила твое письмо.
— Мне давно следовало написать тебе, — заявил он. — Я иногда говорил о тебе с папой. Я спросил его, можно ли тебя искать. Он ответил, что, если бы ты этого хотела, то вернулась бы сама. Но ты не вернулась. Я говорил себе, что ты о нас забыла. Это лучше, чем думать, что ты меня ненавидела.
— Не двигайся, — сказала она.
— Что?
— Просто… стой там. — Эллисон вернулась в коридор, схватила сумку с крючка и вытащила фотографию, которую хранила больше тринадцати лет. Она принесла ее на кухню, где спиной к холодильнику стоял Роланд.
— Вот, — сообщила она, передавая ему фото. — Доказательство, что я никогда не забывала.
Он взял у нее фотографию и посмотрел на нее. Затем он повернулся и повесил ту на холодильник с помощью магнита. Затем мужчина вынул свой кошелек из заднего кармана и вытащил свою фотографию. Это была недостающая часть ее фото, оторванная часть. С помощью другого магнита он соединил две половины фотографии. Теперь фото было целым. Эллисон в руках Роланда, Роланд стоит рядом с Диконом, который стоит рядом с Торой, и все они держат бенгальские огни так, чтобы четыре горящих кончика стали одним целым.
— Ты дал мне это фото? — спросила Эллисон.
— Полагаю, ты действительно ничего не помнишь с того времени, — сказал он. — Ты была в больнице, и я хотел поговорить с тобой. Папа сказал нам, что ты едешь домой с тетей, когда тебя выписали, так что я знал, что, вероятно, это был мой последний шанс объясниться. Я дождался наступления темноты и пробрался к тебе.
Эллисон ошеломленно посмотрела на него
— Ты спала, — сказал он. — Так что неудивительно, что не помнишь этого. Но я все равно говорил с тобой очень долго. Вероятно, это было мое первое признание.
— Признание в чем?
— Я сказал… — Роланд сделал паузу. Его глаза потемнели. — Я сказал, что сожалею о том, что произошло между нами. Сказал, что хотел бы быть дома, чтобы мог помочь тебе, когда ты упала. Сказал, что надеюсь, что ты скоро вернешься к нам. Но если ты этого не сделаешь, я бы хотел, чтобы у тебя было наше фото, пока ты снова не вернешься домой.
Эллисон моргнула, и горячие слезы потекли по ее щекам.
— Мне было интересно, откуда это фото, — призналась она. — Я думала, отец положил его в мой чемодан.
— Мне хотелось, чтобы ты помнила нас, — сказал Роланд. — Нужно было дать тебе целое фото, но я тоже хотел помнить тебя. Монахи не носят кошельки, но эта фотография была у меня в молитвеннике до тех пор, пока я не ушел. — Он сделал паузу и, казалось, решал, должен ли сказать то, что сказал дальше: — Я молился за тебя.
— Ты молился? О чем ты молился? — спросила она, глубоко тронутая. Кто-нибудь еще молился за нее?