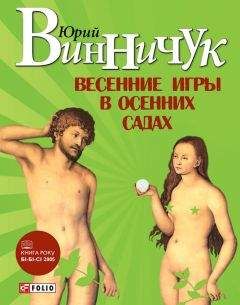– Ты работаешь здесь всего третий год! – продолжал греметь Чистяков. – Сколько ты этих больных повидала? Уж, наверное, меньше, чем я, или Валентина Николаевна, или Аркадий! Однако же мы, дураки, терпим, лечим, стараемся чем-то помочь! И если не испытываем симпатий к ним как к личностям, то все же имеем профессиональный интерес как к пациентам! И тебя никто не просит любить алкашей! Не хочешь работать здесь – уходи, ищи тепленькое местечко. Но пока ты работаешь, разобраться, что происходит с твоим больным, ты обязана!
– Запомните навсегда, Валерий Павлович, дорогой! – Татьяна побелела от злости. – Я никогда никому и ничем не обязана! И особенно вам. И вы не смеете меня оскорблять. И словечко ваше «фашизм» приберегите для слабонервных! Для тех, кто не знает, что делается, например, в Чечне. А я, запомните, не из таких! Нечего меня тут учить, как надо относиться к больным!
И махом накинув на свое ослепительное платье красивый, импортный, не в больнице взятый халат, Таня вышла из комнаты.
– У нее же день рождения сегодня! – укоризненно протянула Мышка.
– Да черта с два нужен мне ее день рождения! – стукнул кулаком по столу Валерий Павлович. – Я и здороваться больше с ней не хочу!
– Да ладно вам, Валерий Павлович! – Мышка вдруг вытянула из лежавшей на столе у Ашота пачки тонкую сигаретку и неумело затянулась. – Вы с нами как в школе военрук на военной подготовке. Все она понимает, наша Таня, все знает. Но когда вместо романтики, что преподносили нам в институте, нам и вам приходится обмывать и раздевать здесь завшивленных больных, согласитесь, получается не совсем то, о чем могут мечтать нормальные люди.
Валерий Павлович как-то странно закашлялся и закряхтел.
– Только вы не говорите, – тоненьким голоском продолжала Мышка, – что люди на фронте и не то видели. Да, видели. И сейчас, наверное, видят. Но мы живем здесь, в Москве, и тоже видим самое разное. И Москва наша то в блеске, то в нищете, словно куртизанка. А Таня, она не плохая. Только она не хочет быть в нищете, а хочет – сразу в шоколаде. Как, кстати, многие другие, кто устроился в приличные места за большие деньги. Она же не виновата, что ее папа, профессор-биохимик, оказался слишком бедным и слишком принципиальным и попросил нашего главного врача взять дочку на работу и всему научить, чтобы в жизни у нее был всегда свой кусок хлеба. Это она сама мне рассказала. Просто есть люди, которые, как вы, как Валентина Николаевна, могут долго брести в глубоких сумерках, вытянув руки, и ждать, когда же впереди засияет свет. А другие темноты не любят и отчасти боятся. Им нужно много и лучше сразу, поэтому они любят свет люстр и ненавидят бродить в потемках.
Мышка умолкла, ужасно застеснявшись своей длинной речи. Валерий Павлович насмешливо посмотрел на нее и спросил:
– Марья Филипповна, вы стихи случайно не пишете? А то дали бы почитать!
Мышка скромно ответила:
– Нет, не пишу, – и выглянула за дверь. – Я так и думала, Таня в палате! – обрадованно сказала она.
– Ну да, она у нас медицинское светило! Уж если зашла в палату, так все сразу всем будет ясно и все сразу будут здоровы! – ворчливо отозвался Валерий Павлович, надевая очки. Зазвонил внутренний телефон. Чистяков неохотно снял трубку.
– Ну вот, – сказал он. – Хватит болтать – к нам повесившийся. Звонили из приемного, я пойду его смотреть, а ты свяжись с ЛОР-отделением, чтобы отоларинголог тоже спустился – нет ли переломов хрящей гортани. Кстати, переводной эпикриз написала?
Мышка протянула ему историю болезни, но он не взял.
– Если написала, то хорошо. Я не буду читать, некогда. Звони тогда в кардиологию, пусть быстрее забирают больного с инфарктом. На его место положим повешенного, чтобы третью палату не открывать, а то там полы мыть некому.
Мышка встала, Валерий Павлович пошел к двери.
– Да, не забудь, – повернулся он у самого выхода, – свяжись все-таки с хирургией, узнай, когда они придут делать перевязку кавказцу. За полчаса до перевязки введешь ему промедол. И нейролептик. И вообще, он какой-то нервный. – Чистяков секунду подумал. – Ты лучше дай ему внутривенный наркоз на десять минут на время перевязки, чтобы спокойно лежал, дал осмотреть раны.
Мышка пометила что-то себе в блокнотик. Валерий Павлович продолжал.
– Если следователь придет без меня, расскажи ему про синяки на запястьях у девочки, опиши их в истории болезни. Еще передай ему привет от меня и скажи, что, по моему мнению, ему есть тут над чем поработать. Пусть дождется, пока я приду. Все поняла?
У Мышки, которая дежурила с Барашковым всю предыдущую ночь, в голове клубился легкий туман. Но ее цепкая память все равно не упустила ни слова из приказаний Валерия Павловича. Доктор аккуратно записала все указания в блокнотик, чтобы что-нибудь не забыть. Она вообще любила порядок во всем.
Врачебная конференция подходила к концу. Монотонно заканчивали жужжать выступающие. Главный врач, сверкая очками, руководил народом. Доктор Азарцев, отгородившись от всех газетой, потихоньку дремал. Он не хотел ничего слушать. Мало ли за свою жизнь он насиделся на таких же или почти таких конференциях? Но помимо его воли речи выступающих не проскакивали мимо, а воспринимались целиком. Проблемы были одни и те же. Все казалось таким знакомым, таким одинаковым, как будто он сам проработал в этой больнице не менее пятнадцати лет. Был он сейчас здесь, однако, в первый раз.
Потихоньку Азарцев стал наблюдать за присутствующими. Конечно, всех он не видел. Лицом к нему, за покрытым сукном столом, сидел только главный врач да несколько приближенных к нему лиц. Остальная масса людей оказалась к нему спинами, и он мог видеть только затылки. Но и сзади наблюдать было интересно. Терапевтов можно было узнать по тому, что они сидели в открытых халатах, без шапочек, женщины с прическами, мужчины почти поголовно в очках. Хирурги и травматологи уселись стройными рядами, состоявшими практически из одних мужиков, все в специальных зеленых пижамах. Причем несмотря на то, что во всей больнице было прохладно, а в конференц-зале – по-настоящему холодно, хирурги храбро выставляли напоказ волосатые мощные руки и груди. Лысые доктора надвигали шапочки поближе на лоб, но иногда (это Владимир подмечал и раньше) снимали их, когда никто не видел, и быстро протирали лысины салфетками. Те, кто сохранил шевелюры, шапочки игнорировали. Если бы Володя мог заглянуть под кресла, то мало у кого из мужчин увидел бы туфли на ногах – большинство щеголяли в мягких растоптанных шлепанцах.
Доктора-офтальмологи были маленькие, чистенькие, аккуратненькие. Преимущественно женщины в красивых импортных халатиках и кружевных блузках.