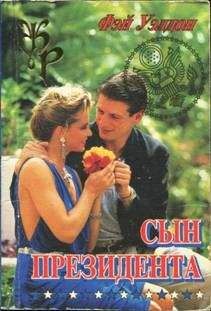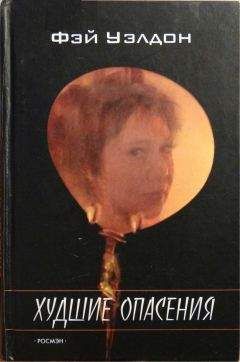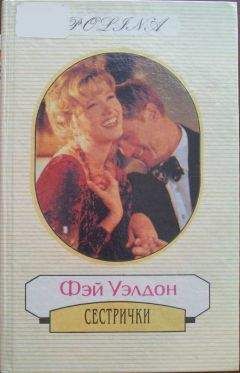— Что он тебе сказал? — спросила Изабел сына.
— Ничего.
— Тогда что ты там делал?
— Ничего.
Джейсон казался очень довольным своим секретом, в чем бы он ни заключался. Изабел почувствовала, что он внезапно вырос, что он удаляется от нее; там, где раньше была расщелина, теперь зияла пропасть. Ее дитя уходило от нее, его вырвали из ее рук; она тянулась к нему, но он равнодушно повернулся спиной. Его жизнь только начиналась. Какое значение имела ее жизнь.
— Что он тебе сказал? — спросила Изабел у Хомера.
— Спросил про мое детство и мою интимную жизнь.
— Что ты сказал?
— Не очень много. Что у родителей был властный характер, а моя интимная жизнь превосходна.
— Спасибо.
— Пожалуйста.
— Моя интимная жизнь? — повторила Изабел за доктором Грегори, когда очередь дошла до нее. — Какое странное выражение. Словно у меня две разные жизни.
— Большинство моих пациентов знают, что я имею в виду, — сказал он, ласково ей улыбаясь. Один глаз у него немного косил. Иногда трудно было сказать, в каком направлении он смотрит.
— Я — не ваша пациентка, — сказала Изабел. — Ваш пациент — Джейсон.
— Рад, что вы проводите различие, — сказал он. — Некоторые из матерей не могут отделить себя от своих детей, и это ведет к всевозможным неприятностям. В чем, по-вашему, дело с Джейсоном?
— Ни в чем.
— Возможно, вы правы. Так какова ваша интимная жизнь?
— Никудышная, — сказала Изабел, не подумав и, сказав это, подумала, что так оно, наверное, и есть. Секс с Хомером был всего лишь приятной гимнастикой, он не был средоточием, центром их супружеской жизни, чем, безусловно, может и должна быть физическая близость. Она позволила себе вспомнить, как это однажды было и, возможно, могло бы быть опять, и с каждым ее словом горизонты ее сознания раздвигались все шире. Там появились тревога и чувство потери, и страх, но и огромная надежда: видение, мысленный образ. Казалось, ей снова восемнадцать. Изабел задрожала, испугалась, что сейчас расплачется.
— И это источник ваших недоразумений с мужем?
— Нет. Из этого источника ничего не проистекает.
— А что могло бы проистекать?
— Дети. — Она снова ответила, не думая. — Но этого я не могу, — добавила она. — Джейсона и одного более чем достаточно, к тому же и Хомер — единственный ребенок, и я, и, по-моему, для нас естественно иметь одного ребенка в семье.
— Но вы не обсуждали этого с Хомером?
— Нет.
— При том, что обсуждаете почти все?
— Да. Непрерывно. До бесконечности.
Мы тоже можем говорить до бесконечности, подумала Изабел, и сказать все, что угодно, и ни к чему не прийти. Ничего, все в порядке. Она снова вернулась в настоящее. Уверенная в себе, хозяйка положения, знакомая с правилами игры.
— Я думаю, вы что-то утаиваете, — сказал доктор Грегори. — Что-то весьма важное. Я думаю, под поверхностью в вашей семейной жизни скрывается ложь, и на нее-то так болезненно реагирует Джейсон. Возможно, это связано с перестановкой ролей между вами и вашим мужем…
— Не перестановка, — поправила его Изабел, — а разделение. Труда. Надеюсь, вы не хотите сказать, что состояние Джейсона вызвано тем, что мы в равной мере выполняем родительский долг?
— Нет, — терпеливо сказал доктор Грегори. — Но мне непонятно, почему вам обоим это кажется так важно.
— О, черт! — воскликнула Изабел. — Но это действительно важно. Как западное общество может выбраться из теперешней неразберихи, если отец и мать не разделяют поровну родительские обязанности? Как мужчина и женщина смогут достичь справедливого равенства?
— Равенство, — ответил он, — возможно, всего лишь средство для отвода глаз. То, что мужчина является активным началом, а женщина — пассивным, находит отражение в устройстве общества почти всех стран мира и во всех вероучениях, в том числе новых восточных учениях, пользующихся таким успехом у молодежи.
— О, черт! — вновь возмущенно воскликнула Изабел у себя дома в тот же самый вечер, обращаясь к Хомеру. — Женофобство, фрейдизм и эта ахинея — Ин-Ян, одновременно. Можешь сам водить к нему Джейсона. Я туда больше не пойду.
Ночью Джейсон позвал ее. Изабел застонала, и к нему поднялся Хомер. Джейсон снова намочил в постель.
— Подожди, доктор Грегори еще заявит, — сказала Изабел, шнуруя кроссовки — она проиграла и снова шла к нему, — что феминизм — это симптом больного общества. Вот увидишь.
— Феминизм вполне законная точка зрения, с которой женщина может рассматривать мир, — сказал доктор Грегори.
— Очень вам благодарна, — ответила Изабел.
— Но как может сын стоять рядом с матерью и смотреть на мир ее глазами? Собственная его эгоистичная природа и любовь к вам приходят в столкновение. Джейсон смышленый ребенок, одаренный богатой фантазией. Вы даете ему представление о мире, никак не совпадающее с реальностью, которая его окружает.
— Не думаю, чтобы дело было в этом, — сказала Изабел.
— Тогда в чем?
Изабел неуступчиво смотрела на доктора и молчала. Он ждал. Снаружи тихо рокотали машины, веселый мальчишеский голос крикнул: «Пока!» Кивало ветвями, царапало по стеклу фиговое дерево за окном, оно принадлежало другому времени, другому месту. Изабел физически ощущала тот барьер в мозгу, который отгораживал ее бывшую от нее сегодняшней. Страсть, влечение, понимание, запертые за этой стеной, вздымались, моля, чтобы их выпустили на волю. То, что теперь сходило у нее за чувства, было лишь жалким подобием того, что она знала прежде.
Конечно, ей ничего не стоило взять себя в руки и предстать перед миллионами зрителей, что она и делала каждый понедельник. Конечно, ей это было нетрудно. Начать с того, что и раньше, еще до того, как она стала появляться на экране, она была всего лишь копией. Хорошей копией, отличить ее от оригинала мог только эксперт, вроде доктора Грегори, но все же копией, подделкой, пародией, насмешкой над оригиналом в силу ее самонадеянности.
— Возможно, я скажу вам в следующий раз, когда приду, — ответила Изабел. — Если приду. Так или иначе, ваш пациент Джейсон, не я.
— Вы интересней, — сказал доктор Грегори, и его блуждающий глаз, левый глаз, вдруг обратился к ней.
Изабел поняла, что именно этим глазом он видел ее насквозь, во всяком случае, если она — копия.
Ложь и обман в сердце каждой матери! — насмехалась, язвила, вышучивала доктора Грегори Изабел в то время как Хомер жарил ромштексы. Он делал это осторожно, включал воздухоочиститель. Изабел поступала более безрассудно — обугливала мясо снаружи на очень сильном огне, так что кухня наполнялась запахом жира и дымом — поэтому последнее время Хомер предпочитал брать эту задачу на себя. Он соглашался, что ее ромштексы вкуснее, но ему противно, говорил он, прибирать после нее кухню.