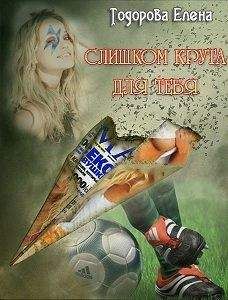— Исключено. Садись в машину, Катерина, — жестко высекает Гордей.
— Но…
Хочу напомнить, что Элизе он доверяет и часто оставляет меня с ней, вот только не успеваю выдать ни одного вразумительного слова.
— Я сказал, садись в машину, — перебивает Тарский голосом, которым при желании можно порезать на полоски металл.
В зоне видимости находятся лишь воротничок его белой рубашки, напряженная шея и твердые линии подбородка, но этого хватает, чтобы прочувствовать, что он крайне недоволен ситуацией.
Дверь дома распахивается, и на парковку высыпают люди. Опасаясь узнать среди них Нору и понимая, что тут свою позицию мне отстоять не удастся, делаю над собой колоссальное усилие и быстро забираюсь в салон. Оказавшись в одиночестве, шумно перевожу дыхание. Затем уже более осознанно и медленно втягиваю жизненно необходимый кислород, но это, конечно же, не способствует готовности к той удушающей стремительности, с которой Гордей, как обычно, не прилагая никаких усилий, захватывает все свободное пространство. Он просто садится в машину и притягивает за собой дверь, а кажется, будто отрезает нас от внешнего мира.
Тошнота и головокружение возвращаются. Я судорожно соображаю, как выбраться из плена Тарского. Сейчас мне не нужен умный и результативный план. Боль сильнее страха и рассудительности. Мечтаю лишь освободиться и оказаться вдали от источника своей боли. Иначе меня попросту разорвет на куски.
— Останови машину. Мне плохо, — шепчу, заторможенно шевеля губами.
Не вру ведь. Едва автомобиль прекращает движение, выскакиваю из салона и сгибаюсь у обочины пополам. Меня выворачивает. Горечь, словно кислота, разъедает горло. Слезы опаляют глаза и щеки. В какой-то момент кажется, что я выплескиваю на пожелтевшую траву не просто содержимое желудка, а заодно и душу.
Лишь бы стало легче… Хоть на час. Хоть на минуту.
Только спазмы стихают, рядом с моим лицом появляется небольшая прозрачная бутылка. Прежде чем принять из рук Тарского воду, осторожно скашиваю взгляд. Веду им по черным брюкам и едва сдерживаю новый приступ тошноты.
Буквально выхватываю бутылку и, выпрямляясь, продолжаю незаметно оглядываться.
Кусты, деревья, темнота.
Набираю в рот воды, споласкиваю, выплевываю.
Кусты, деревья, темнота.
Набираю в рот воды, споласкиваю, выплевываю.
Кусты, деревья, темнота.
— Даже не думай, — мрачно предостерегает Таир за полсекунды до того, как я швыряю в него бутылку и бросаюсь бежать.
Врываясь в гущу леса, несколько удивляюсь тому, что он не пускается сразу следом. Позже догадаюсь: по каким-то соображениям просто дает мне фору.
До города не меньше десяти километров, а я куда-то несусь. На что рассчитываю? Не имею ни малейшего понятия. Забираться слишком далеко опасаюсь. Вдруг потом не найду обратной дороги? Да и перемещаться на шпильках по мягкой почве проблематично. Рассчитывая на то, что достаточно оторвалась, сворачиваю немного в сторону и прячусь за толстым стволом дерева. Прижимая к груди руки, пытаюсь выровнять безумное сердцебиение, как вдруг слышу совсем рядом с собой чье-то тяжелое дыхание.
Боже…
Из темноты на меня смотрят желтоватые глаза. И не одна пара. К счастью или сожалению, но, впадая в истерику, я не могу сосчитать точное количество особей.
— Мама… Мамочка… — шепчу неосознанно. Потом в отчаянии обращаюсь к напряженно замершей стае, будто они способны меня понимать. — Пожалуйста, не трогайте меня… Я скоро уйду… Я ненадолго… Больше вас не побеспокою… Я не опасная… И мяса на мне очень мало…
В ответ на свой безумный лепет получаю враждебное рычание. Я, конечно, не рассчитывала, что они ответят, но все-таки…
— Зачем так злиться? — выдыхаю почти возмущенно. Обхватывая шершавый ствол позади себя, впечатываюсь в него спиной с диким желанием просочиться внутрь. — Ухожу уже… Ухожу…
Сердце по новой заходится в груди. Даже оно меня ругает.
Какая беспечность! Какая безответственность! Какая беспросветная глупость!
Вдруг совсем рядом со мной раздаются выстрелы, и свирепая стая с утробным воем бросается наутек. На одно ухо я точно пожизненно глохну. Потому и не слышу, как подходит сам Тарский. Притиснув меня, дрожащую и растерянную, к дереву, прижимает к моей щеке все еще теплый после выстрелов пистолет.
Тут уже взгляда его никак не избежать. Предусмотрительно обездвиживает меня в выгодном для себя положении. Вынуждает смотреть в глаза. Они горят в ночной темноте ярче тех самых опасных волчьих. Он опаснее. Он полыхает и обжигает яростью. Раздает трескучее напряжение, погружая мое тело в состояние абсолютного паралича. В какой-то миг понимаю, что не могла бы пошевелиться, даже если бы Таир мне это позволил.
— Ты что, мать твою, Катенька, вытворяешь?
Глава 13
Катерина
— Ты что, мать твою, Катенька, вытворяешь?
С его разгневанным голосом оживаю. В груди сходу такая ответная реакция следует… Злюсь на Тарского настолько, буквально по швам трещу.
— Не хочу находиться рядом с тобой, — собственный голос со звоном бьет по нервам. Я почти кричу. Если бы хватило дыхания, точно бы орала во всю глотку. — В одном измерении! На одной планете!
Что-то во взгляде Гордея меняется… Сворачивая бушующий огонь, заливает зрачки беспроглядной чернотой. Мгновение, и так же резко эту тьму раскалывает неоновый, словно небесная молния, разряд.
— Ты думаешь, меня, блядь, волнуют твои желания?
Я не могу понять: кричит Таир или просто с жестким надрывом выдыхает это мне в лицо. Знаю лишь, что ощущаю его слишком близко. Давление пистолета исчезает. Но общее напряжение не спадает. Твердые мужские губы практически касаются моих губ. Желаю увернуться от них, но не могу. Ладонь Гордея до упора задирает мой подбородок и сдавливает пальцами шею, фиксируя лицо в удобной для него позиции, словно он намеревается меня сожрать.
— Ты скотина. Я тебя ненавижу!
Все, что могу — гореть эмоциями и бить словами.
— Это я уже слышал.
— Так послушай еще! И еще! И еще! Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу! — кричу не я, душа моя этой болью расходится. Пытается выплеснуть то, что не вытолкнула тошнота. Зачем же так любить? Зачем эти чувства? Вдруг никогда не пройдет? Невыносимо! — Каждый день будешь слышать от меня только это! Ненавижу тебя, Гордей Тарский!
Стискивая челюсти, свирепо расширяет ноздри и…
— Это хорошо, хорошо, — как будто поощряет, только вот голос вибрирует все той же задавленной злостью.
Он практически рычит, как те самые волки. А потом… Зачем-то целует меня. Не позволяя ни отвернуться, ни хоть на миллиметр сдвинуться, ни полноценно вдохнуть после выброса выматывающего количества энергии. В этот поцелуй Тарский те же эмоции вкладывает. Со злостью сминает мои губы. Агрессивно раздирает мой рот. Этот контакт физически болезненный и безумно желанный душевно. Вмиг выносит из моего сердца все, что, вопреки обидам и запретам, упорно живет там. Разбрасывает по груди противоречивые и очень сильные чувства. Растирает их до крови. Перемалывает и смешивает.
Люблю и ненавижу.
Ненавижу и люблю.
Люблю…
Ненавижу…
Люблю…
Цепляюсь ладонями за мощные плечи. Царапаю ногтями. Ласково скольжу по напряженной груди. Сгребая пальцы в кулаки, так же самоотверженно, как и целую, колошмачу каменные мышцы.
Никакая боль не помогает держаться безразличной. Ничего не помогает. Его губы, его запах, его руки — мое лекарство. Я все принимаю, потому как нуждаюсь в этом исцелении. Не могу иначе, каким бы сумасшествием все это не казалось.
Мысленно его умоляю…
Дыши на меня. В меня. Останься во мне навсегда. Навек.
Пусть и он дрожит, как сейчас. Мелко, едва различимо, но дрожит ведь. Чувствую и впитываю. Боже, я чувствую и задыхаюсь восторгом!
Какое безумие…
Сотри мои губы в кровь. Сотри их до полного отсутствия вкуса. Сотри меня. Сотри же…