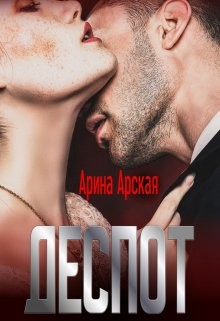Когда он с утробным и каким-то звериным рыком содрогается и выскальзывает из меня, чтобы через секунду окропить живот горячим семенем, я всхлипываю и в пьяных рыданиях падаю на спину, прикрыв лицо руками. Меня лишили невинности под красивой хрустальной люстрой на массивном и крепком столе из лакированного дуба, и я посмела получить удовольствие. Где моя расчетливость и хладнокровие?
Тяжелое дыхание Мирона Львовича отдается гулом в ушах, а его поглаживания по бедрам теплыми ладонями не успокаивают. Наоборот, они вызывают новые приступы рыданий. Он прав, я гадкая шлюшка! Вытирает салфеткой живот от липких пятен и молча подхватывает на руки.
— Оставьте меня. Прошу.
— На столе? — изумленно спрашивает Мирон Львович, похрустывая осколками под туфлями.
— Можно и на столе, — бубню в ладони сквозь слезы. — Хороший стол. Крепкий.
Смеется, стервец. А я разве шучу? Вот мой бы кухонный стол развалился от его несдержанности и напора. Рыдаю теперь над тем, какая у меня хлипкая мебель и как мне ее жаль. Над старыми советскими стульями, над тумбочкой без одной ножки и над комодом, у которого заедает нижний ящик. Бедные несчастные малыши, которые нуждаются в заботе и ремонте, а у меня даже молотка дома нет.
Прихожу в себя уже под одеялом на жестком матрасе и шелковых простынях. Мирон Львович лежит рядом в темноте и успокаивающе поглаживает по бедру. Чего ты меня трогаешь? Это же ты и виноват в моих слезах. Между ног тянет болью и зудящим дискомфортом.
— Успокоилась? — тихо спрашивает и умело расстегивает бюстгальтер, который сдавливает грудь стальным кольцом.
— Нет, — цежу сквозь зубы и шмыгаю. — И чтобы вы знали, мне не понравилось.
— Ты лгунья, — вздыхает Мирон Львович.
— Вы нагло воспользовались моей слабостью, — бурчу в подушку.
— Разве?
— Да.
— Не настолько ты пьяна, чтобы не отдавать отчет в своих действиях. Кто сказал, что не боится? И буду честным, твоя смелость и решительность меня впечатлила.
Я слышу в хрипловатом и сонном голосе издевку, однако что бы он сейчас ни сказал, все будет звучать насмешливо, даже если признается в любви, а он не признается, ведь у него разбито сердце. Так страдает, что нашел новую бабу на замену!
— Злишься?
— Нет, — рявкаю в подушку.
— Софушка, — опять самодовольно посмеивается, — ты не раз будешь кончать от моего члена. Громко и ярко. Привыкай.
С неразборчивым бурчанием сворачиваюсь в калачик под одеялом. Не хочу я больше члена Мирона Львовича. Мне одного раза за глаза хватило. Я даже не уверена, что смогу встать с постели и пройти несколько шагов.
— Каждая женщина проходит этот этап в своей жизни, — ласково обнимает и целует в затылок. — Почти каждая. Есть, конечно, старые девы, но это не про тебя. Я спас тебя от этой незавидной участи.
— Незавидная участь случилась со мной на столе, — зло шепчу сквозь зубы.
— И не раз еще случится, — Мирон Львович отзывается с легким смешком и замолкает.
Полежу и дождусь, когда заснет, чтобы потом без лишнего шума покинуть дом. Без понятия, где конкретно я нахожусь, но об этом я подумаю, когда выберусь из объятий, в которых так тепло и уютно.
Боль внизу затихает, и меня утягивает в дремоту. А как тут не уснуть? Я устала и эмоционально вымотана. Сквозь грезы слышу обеспокоенный шепот Мирона Львовича, который просит кого-то успокоиться. С трудом открываю глаза и в предрассветной серости вижу всклокоченную Анжелу у кровати в мятом платье цвета пудровой розы и с пистолетом в трясущихся руках. Дуло направлено на меня, а лицо искажено гримасой злобы. Она явно не в себе и выглядит посреди белой с позолотой роскоши нелепо.
— Тварь, — шипит Анжела и кривит губы. — Сука.
Глава 16. Скромные секретарши умеют удивлять
— Шлюха, — тихо хрипит Анжела. — Блядина.
Огнестрельное оружие я видела только в остросюжетных боевиках, но все же понимаю, что мне грозит смертельная опасность. Ревнивые женщины непредсказуемые и жестоки к соперницам.
— Анжела, положи ствол, — шепчет Мирон Львович и медленно поддается в сторону гостьи.
Она тут же направляет дуло на него и скалится:
— Замолчи!
— Милая, остынь, — едва слышно говорит он, вновь привлекая внимание отчаявшейся гостьи. — Ты не в себе.
Поджимаю губы. Мужчины! Ты не успокаиваешь разъяренную бестию, а подливаешь бензин в огонь ее злобы. Нельзя говорить женщине в истерике, что она не в себе. Ни в коем случае! Она вновь направляет пистолет на меня, когда я делаю тихий вздох.
— Анжела, — я сглатываю кислую слюну, — я заслуживаю последнего слова перед тем, как ты прострелишь мне голову и мои мозги растекутся по подушке?
— Анжела, — встревает мирон Львович, привлекая к себе внимание.
— Заткнись! — взвизгивает и хмурится, повелительно качнув пистолетом. — Говори.
Вижу по тени в глазах, что она живо представила окровавленные ошметки мозгов на шелковой наволочке. Нажать на курок большого ума не надо, но столкнуться с уродством смерти — очень страшно. Мирон Львович косит на меня встревоженный взгляд, когда я медленно и без резких движений сажусь, прижимая одеяло к голой груди.
— Не двигайся! — рявкает Анжела.
На самом деле, мне страшно, но в момент стресса я могу удивить. Да и после потери невинности на дубовом столе я выжгла рыданиями все эмоции дотла, и мне близок гнев Анжелы.
— Согласись, веер кровавых брызг и кусочков мозгов на дорогих обоях будут выглядеть красочнее, чем просто подушка в крови, — я слабо улыбаюсь. — Это будет отпечаток твоей ярости. Часть крови обязательно попадет на лицо Мирона Львовича, и он на всю жизнь запомнит этот момент. Поэтому я села, чтобы тебе было удобнее стрелять. Теперь, — закрываю глаза, — нажимай на курок, Анжела, — касаюсь переносицы, — и постарайся попасть вот сюда. Это важно.
Во всех подробностях представляю предстоящие похороны. Мама плачет, а бледный папа поджимает губы, скользнув взглядом по моему восковому лицу. Если присмотреться, то можно увидеть неровность на гладком лбу у переносицы: работники морга плохо замаскировали входное отверстие от пули. Руки бы им оторвать.
— Чокнутая сука… — шепчет Анжелика.
— Можешь подойти ближе и приставить дуло ко лбу.
Я лежу в гробу в голубом ситцевом платье и почему-то зеленых босоножках. Под тенью тополя в стороне ото всех стоит Мирон Львович в черных костюме и рубашке и мрачно наблюдает за похоронами. Он помнит брызги крови на своем лице и мои раскинутые руки на кровати. Это он виноват в моей смерти, и ему бесконечно жаль глупую и наивную секретаршу, а еще он осознал, что любил меня, но поздно. Я мертва.
— Стреляй, — упрямо говорю я.
Фантазия о похоронах получилась живой, драматичной и отчаянной. Сколько сплетен будет! Сколько слез! Настоящая трагедия. Вот поэтому мне нельзя пить. Меня переклинивает. На первом курсе на посвящении после нескольких рюмок коньяка, на который меня уговорили одногруппники, я решила срезать волосы в туалете. Девочка с параллельного потока отобрала маникюрные ножницы и назвала дурой. Я так тогда обиделась, ведь я посчитала, что мне пойдет стрижка под мальчика, но затем меня вывернуло, и я оставила эту идею на потом.
— Анжела, — ласково и с хрипотцой говорит Мирон Львович. — Милая моя…
Даже я бы купилась на его лживую улыбку и проникновенный чувственный голос. Анжела всхлипывает и отшвыривает пистолет на матрас, отскочив к стене. Мирон Львович коршуном бросается к оружию и с тихим щелчком вынимает магазин, который откидывает в сторону. Он уверен в своих действиях, словно не в первый раз держит в руках пистолет. Прямо опасный гангстер.
— Мирон… — скулит она, вжавшись в стену. — Прости… Мирон…
Что-то лопочет о любви, сползая на пол, а Мирон Львович кидает пистолет в ящик тумбочки из белого лакированного дерева с изысканной позолоченной резьбой на панелях.
— Господи, Анжела, что ты творишь? — садится на край кровати и подпирает лоб кулаками.
— Я люблю тебя, Мирон… Мне плохо без тебя… а отец… отец…