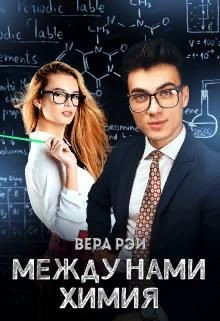class="p1">Мы жили вдвоем, жили очень скромно, в доме, сколько я себя помню, никогда не делался ремонт, все было старенькое, но чистенькое. Мама работала в профилактическом санатории медицинской сестрой, он находился на окраине города, но добираться до него было вполне удобно, ходил прямой автобус.
Она была очень красивая, светлые длинные волосы всегда заплетены в тугую косу, простая бесформенная одежда скрывала тонкую фигуру. Она словно пряталась от всего мира, была не разговорчива и даже нелюдима.
Только по старым фотографиям, на которых застыли фрагменты счастья и радости, было видно, что она была другой. Я очень рано научилась не спрашивать, кто мой отец и где он. После этих вопросов мама надолго замыкалась в себе, говорила что-то невнятное, закрывалась в комнате и просила её не трогать.
Я научилась быть такой же незаметной и невзрачной, как и моя жизнь. В школе была всегда в стороне, наверняка, меня считали такой же чокнутой, как и моя мать. Маленькая, слишком худая для своего возраста, с пучком темных волос, скрученных на затылке, и огромными карими глазами, абсолютная противоположностью своей матери.
Мне временами казалось, что ей больно на меня смотреть. Иногда она могла заплакать, прижать меня к себе, шептать: «Прости, прости меня… прости», и целовать, но потом снова была так же холодна и безразлична ко мне и ко всему вокруг.
Хорошо, что в доме было много книг, это от дедушки, я его не помню, но спасибо ему за них. В книгах была моя жизнь, там я училась, смеялась, спасалась от одиночества. Конечно, я видела, как живут другие семьи, как родители любят и балуют своих детей, ругают за шалости, помогают, если нужна помощь. Хотела ли я, чтоб у нас было так же? Да, хотела, но уже тогда я понимала и здраво оценивала, что так не будет никогда. Зачем переживать о том, чего не будет?
В тот же день, когда Зинаида Никифоровна донесла до меня новость о смерти матери, сердобольная соседка поведала, сидя на кухне со стаканом накапанной валерьянки, историю красавицы Любаши из семнадцатой квартиры.
Таких историй бесчисленное количество по всей стране, такие истории калечат жизнь, разрушают семьи и сводят в могилу. Кто-то борется и живет, назло всем, кто-то пытается забыть, заглушить наркотиками, залить алкоголем, утопая и опускаясь на дно, а кто-то не может забыть, не хочет жить, но приходится.
Любашу Резникову, белокурую красавицу с бездонными голубыми глазами, умницу, любимую и единственную дочь, гордость и надежду, изнасиловали. Случайно или намеренно, да какая уже теперь разница. Кому-то очень понравилась девочка, свежая, семнадцатилетняя и невинная. Её не было три дня, ушла в медицинское училище и не вернулась.
Родители, слегка пожилые уже люди, оббегали всех подруг, знакомых, были в милиции, но все было безрезультатно. Любаша пришла сама, поникшая, раздавленная морально, искалеченная физически, со следами насилия. Она не помнила, где была, но очень отчётливо помнила, что с ней делали. Было написано заявление, сданы анализы и сняты показания, но прежней Любаши уже было не вернуть никогда.
Все бы может ещё обошлось как-то через время, ведь оно точно лечит, везде так пишут и говорят. После походов к психологу, реабилитацию, может быть, можно было вернуть девушке желание жить, а не быть тенью самой себя. Но этого не случилось, через несколько месяцев все домашние поняли, что Люба беременна.
Вот тут уже началась борьба за жизнь, она резала вены, пыталась повеситься и отравиться. Уговоры, мольбы и просьбы родителей дали свои результаты. Люба как-то притихла, на её просьбу сделать аборт, говорили «нет», было уже поздно и опасно для здоровья. Так в морозную ночь февраля родилась девочка.
Мать не хотела её видеть, не хотела кормить грудью, девочка постоянно плакала, но с аппетитом ела приготовленную нянечками смесь.
Вопреки предположениям, новорождённую девочку не оставили в родильном доме, а забрали, мать не написала отказ. Любашины родители были людьми не глупыми, понимали, что ребенок не виноват, взяли на себя всю заботу об этой крохе. Предполагая, что может быть, со временем, их дочь посмотрит на своего ребенка иначе и найдет в нем спасение для себя.
Так прошло три года, Люба отстранилась от всего мира, попытки суицида больше не предпринимала. Хотя могла это сделать, имея полный доступ к медикаментам по роду своей профессии, закончила учебу, устроилась на работу. Всё шло своим чередом, но вскоре друг за другом, очень быстро ушли родители Любы, и девочки остались вдвоем.
Ребёнок требовал постоянного внимания, Люба, как могла, его давала, но временами накатывало, она никого не хотела видеть и слышать, в такое время её дочь была у соседки. Со временем девочка научилась лишний раз не лезть к матери, играть сама с собой и читать книги.
Слушая эту историю, полную боли, отчаянья и безысходности, я рыдала. Меня трясло в истерике от понимания и осознания того, каким образом я появилась на свет. Нежданный, нежеланный и нелюбимый ребенок, вот кем я была для своей матери. Я глотала слезы обиды, непонимания и безразличия, всего того, в чём я жила пятнадцать лет. Но я не могла, при всей, на меня нахлынувшей, как поток обжигающих горьких слез, правды, осуждать или ненавидеть свою мать, я её все равно любила.
На второй день после похорон, на которых были немногочисленные мамины коллеги по профилакторию, я и соседка Зинаида Никифоровна, в дверь постучали. Я ждала службу опеки, но на пороге возник не пожилой мужчина. Светлый брючный костюм, невысокий рост, красивая, немного вычурная печатка на мизинце, мутно-голубые глаза под светлыми ресницами и почти лысая голова.
Мужчина представился как Штольц Геннадий Аркадьевич, двоюродный брат по линии моего дедушки. Ни о каком брате, хоть и двоюродном, я никогда не слышала, никто не рассказывал, да и на фото, которые я так любила разглядывать, его не было. Мужчина был убедителен, показал документы, по которым ему как ближайшему родственнику была одобрена опека в кратчайшие сроки.
— Не бойся меня, девочка, я тебя не обижу, — так в моей памяти говорили только маньяки в книжках, но неприязни и чувства тревоги Геннадий Аркадьевич не вызывал, как, впрочем, наверное, и все настоящие маньяки и извращенцы.
Но выбирать мне не приходилось, так потом будет часто в моей жизни. Всё выбирали и решали за меня. Так в свои неполные шестнадцать лет я стала Вероникой Геннадьевной Штольц, дочерью очень уважаемого и не последнего человека в нашем городе, но это выяснилось уже потом.