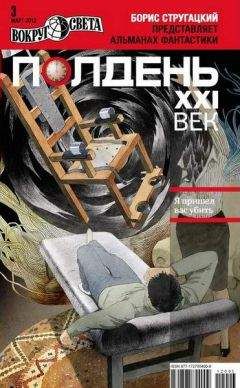— Мне всё не понравилось. А особенно то, как ты с ними общалась, — отчеканил Марк, поднимаясь со своего места.
— Это еще почему?
— Потому. Потому что мне показалось… Мне показалось, будто тебе с ними было интересно! — встав из-за стола, он приблизился ко мне, и я попятилась в необъяснимом страхе.
— Ну, да, мне было интересно. И что? Марк, что здесь такого? — примирительным тоном начала было я, как он тут же безапелляционно меня прервал:
— Тебе не должно быть с ними интересно.
Мои глаза еще больше расширились, хотя, казалось, это было уже невозможно:
— Это… Это как?
— А вот так. Это плохие, злые люди, и они тебе совсем не нужны.
Я чуть не рассмеялась, настолько странной была эта претензия, да только по лицу Марка было видно, что ему сейчас не до веселья.
— Ну, знаешь, не нужны! — не удержавшись, фыркнула я. — Ты не прав, Марк! Очень даже нужны.
— Зачем? — он упрямо выдвинул вперед подбородок — свидетельство готовности спорить не на жизнь, а на смерть.
— Потому что, Марк, я такая. Мне нравится общаться с людьми. Мне нравится, когда меня слушают. Мне нравится… нравиться.
— Скажи, а разве я тебя не слушаю? — продолжая сверлить меня пристальным взглядом, спросил он.
— Слушаешь! Конечно же, слушаешь! — с радостью выпалила я, схватив его за руки, и заглядывая в глаза в надежде убедиться, что пугающий огонек в них погас. — Ты же самый-самый лучший мой слушатель!
— Ну, так и зачем тебе тогда они? — загоняя меня в полнейший тупик, еще раз повторил Марк.
— Я… эээ… Я не знаю, — растерянно пробормотала я.
Формально получалось так, что он абсолютно прав. Зачем мне кто-либо еще, если есть друг, который знает и понимает меня без слов, в чьей искренности и преданности никогда не приходилось сомневаться, в то время как посторонние люди вовсе не отличались подобной чистотой устремлений. Возразить на это с точки зрения здравого смысла было нечего. Но интуитивно, сердцем я понимала, что это неправильно, неестественно, ненормально. Один, даже самый лучший человек не сможет заменить целый мир с его ловушками и горькими уроками. Потому что жизнь — это что-то более интересное и многогранное, чем благополучное существование и ощущение постоянной безопасности.
Вот только выразить то, что я чувствую так же четко и понятно, как это делал Марк, я не могла. Да он бы все равно не согласится с моими доводами. Я продолжала смотреть на него в полной растерянности: он в первый раз не понял меня, мало того, даже не пытался этого сделать. Осознавать такое положение вещей было очень обидно и очень больно. К горлу предательски подкатил комок, на глаза навернулись слезы — и это стало моим последним, решающим аргументом.
С первой же слезинкой, слетевшей с моих ресниц, злость Марка испарилась, будто бы ее и не было. Уже через пару секунд он немного смущенно гладил меня по голове, пока я, горько рыдала ему в плечо, пытаясь вытереть лицо его же свитером.
— Алеша… Ну, все, не надо. Я… Я дурак. Не плачь, ладно? А хочешь, я тебе рыбок подарю?
— Не нужны мне твои рыбки-ы-ы! А ты — дурак, да! — зло выкрикнула я, отстраняясь. — Надумал меня в чем-то подозревать! Ты — мой самый лучший друг! Тебя даже сравнивать нельзя с остальными, ты важнее! И это навсегда, понимаешь? Навсегда! Так что не вздумай опять устраивать такое! Тоже мне, придумал — не общайся с другими людьми! Может, мне вообще из приюта уйти, отказаться от всех друзей и поселиться здесь, с тобой, в твоих хоромах?
— А что? — шутливо заметил Марк. — Это было бы неплохо.
Еще пару секунд мы молча смотрели друг на друга, а потом прыснули смехом. Наш первый серьезный конфликт был улажен в считанные секунды. Улажен, но не закрыт окончательно, хотя вернуться к этой проблемной теме нам пришлось еще нескоро. До этого времени мы еще несколько лет, как в сказках, жили счастливо и более чем дружно, причем, как и возжелал Марк — практически в его хоромах.
С того дня, получив своеобразный пропуск в семью, я, конечно же, не смогла пренебречь шансом почаще бывать у них. Нет, я совершенно не зазналась, и не променяла родной приют на сытое гнездышко, и Марк иногда захаживал к нам в гости. Но, будучи по натуре собственником, он мгновенно оценил выгоды новой ситуации и не думал меня больше отпускать.
Так что, в приют я именно наведывалась, а жила, в сущности, у Казариных. Все началось с одного снежного вечера, когда дороги замело, и даже служебная машина Виктора Игоревича не смогла доставить меня домой, а закончилось покупкой двухъярусной кровати в детскую, чтобы Марк перестал кочевать по квартире, уступая мне свое место, и пугать по утрам Валентину Михайловну.
Естественно, подобные новшества стали причиной для горячих обсуждений в нашем детском доме. Друзья считали, что я вытянула счастливый билет, и нашла, наконец, свою семью. Взрослые, в основном, тоже радовались, особенно после того, как Виктор Игоревич официально оформил опекунство надо мной. Этот факт вызвал целую бурю эмоций в приюте: одно дело просто помогать сиротке, совсем другое — подтвердить свои добрые намерения на бумаге. Наш отзывчивый Петр Степанович, при всей своей доброте, жестко пресекал сплетни немногочисленных завистников насчет того, что меня просто использует в своих целях солидный дяденька, и недолго мне пировать осталось, он, как и любой власть имущий, "поматросит и бросит", по-другому они не умеют.
Хотя, они не были так уж неправы, эти недруги. Весь секрет моего счастливого превращения из безродной сиротки в ребенка из пристойной семьи заключался в достаточно низменных материях: в самопиаре Виктора Михайловича, в моей неиссякаемой полезности (история покровительства "талантливой сиротке" после публикации газетной статьи заинтересовала областное телевидение, а это был уже нешутейный размах) и, как это ни странно, в нелюбви Валентины Михайловны к собственному ребенку.
Я стала для матери Марка практически героем-освободителем, спасшим ее от остатков общения с собственным сыном. И поэтому с каждым днем ее негативное отношение к отпрыску плавно перетекало в позитивную привязанность ко мне. Вскоре она воспринимала меня как приятельницу, взявшую на себя крайне неприятные обязанности по общению с Марком, и как лекарство от одиночества в придачу. Ведь подруг у Валентины Михайловны, как это чаще всего бывает с признанными красавицами, не было. Рядом крутились одни лишь завистницы да подобострастные поклонницы, мечтавшие погреться в лучах ее благополучия. И тех и других по-женски мудрая Валенька предпочитала держать на расстоянии: зачем ей лишняя конкуренция? Я же никакой опасности для ее супружеского счастья не представляла — материнская ревность не могла омрачить наше взаимодействие в силу отсутствия любви к сыну, возложить на меня излишние надежды, и клевать за их провал, как это часто делают женщины в отношении родных дочерей, она тоже не могла.
Потому, между нами установились практические идеальные отношения: поверхностные, взаимно нераздражающие, спасающие от скуки и без глубокой привязанности. С одной стороны, я не могла испытывать искреннюю симпатию к женщине, которая сделала Марка таким колючим и недоверчивым, отказав ему даже в капле внимания и нежности. С другой — против своей воли я тянулась к ней, как и ко всему прекрасному, и мне были интересны наши девчачьи посиделки и болтовня.
Именно Валентина Михайловна в очень корректных выражениях посоветовала мне огуречный крем, отбеливающий кожу и осветляющий веснушки. Именно она научила меня одеваться не для того, чтобы было не холодно или не жарко, а — неслыханное дело — для красоты! Никогда не имея проблем с деньгами, супруга Виктора Игоревича относилась к ним достаточно легкомысленно, тратя солидные суммы на покупку заколок, браслетов, сарафанов, юбочек, кофточек, сапожек-босоножек и разряжая меня, как куклу. Да я, наверное, и была ее любимой, большой, говорящей куклой, но меня это совершенно не волновало. Мне нравилось чувствовать, что обо мне заботятся.