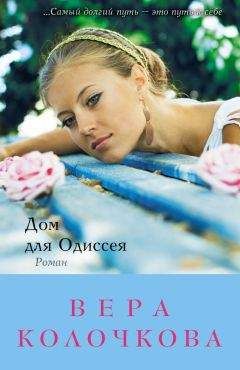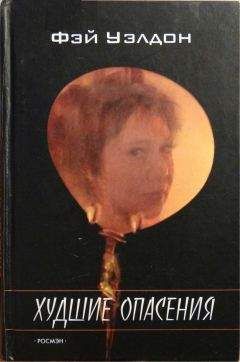Лиза подняла голову, лихорадочно принялась рыться в сумке, ища телефон. Найдя в его памяти нужный номер, нетерпеливо стала слушать длинные гудки вызова.
– Рейчел, добрый день, это Лиза…
– Элизабет, господи, ну наконец-то! Куда ты пропала? Я со вчерашнего вечера звоню, звоню… – торопливо затараторила ей в ухо американка своей английской фуфукающей речью, будто горячая картофелина перекатывалась у нее во рту. – Мне не терпится все узнать поподробнее! Ты привезла из Москвы судебное решение? Мы можем на него посмотреть?
– Да нет, сразу на руки решение у нас никто не дает. Оно будет готово только дней через десять. Ну, минимум пять… Да не волнуйся, теперь уже никто и ничего не изменит! Подожди еще немного.
– Лиз, тебе Дейл передает огромное спасибо! Он тут рядом! А когда мы сможем увидеться?
– Так я потому и звоню! Знаешь, мне бы хотелось с тобой поговорить. Вернее, посоветоваться.
– А что такое? У нас еще какие-то проблемы? – забеспокоилась американка.
– Нет у вас больше никаких проблем. Это у меня теперь проблемы.
– А что случилось? Я могу тебе помочь? Ты говори, не стесняйся. Я все сделаю. То есть мы с Дейлом, конечно, сделаем все, что в наших силах.
– Слушай, а ты можешь сегодня вечером ко мне приехать? Помнишь, где мой дом? Найдешь?
– Да. Конечно же, Лиз. Я приеду. Обязательно помогу, чем смогу. Мы теперь твои должники.
– Тогда до вечера? Я тебя жду! И вкусным борщом накормлю. Настоящим. Таких в вашей Америке и не варят. Только, если можно, без Дейла. Мне с тобой по-женски одну интимную вещь обсудить надо. Очень нужна твоя помощь. Вернее, не помощь, а конкретный совет.
Алина лежала, вытянувшись стрункой на узкой больничной кровати, и старательно смотрела в потолок, выкрашенный в мутно-серый больничный цвет. Если бы кто знал, как он ей надоел вместе со своей жалкой люстрочкой в виде тюльпана такого же цвета. Но вот странное дело – пока взглядом упираешься в него, вроде и не страшно. Даже дышать можно, и жить, и о чем-то думать. Такое чувство, что он на одном только ее взгляде и держится, как на подпорке. А стоит глаза скосить – и страшно становится. Ну не рухнет же он, в самом деле! Не придавит грудь, как в страшном сне, который видится ей с самого детства.
Эк ее на этот раз прихватило. Ни разу еще так плохо не было. Вернее, было один раз, но давно, еще до Бориса и Глеба. И тоже вот так в больнице оказалась. Но тогда-то понятно почему. После того что случилось с ней, и у здоровой девчонки может сердце разорваться в одночасье, а не то что у нее, с детства сердечно-порочной доходяги. В этот раз ничего такого сверхстрашного не случилось, а все наоборот, и ей бы, по всему выходит, от счастья вроде как приплясывать надо, а она тут залегла, потолок глазами давит. Хорошо, хоть дети дома не одни, а с Лёней. Куда б она их дела? А может, потому сердце и выдало такую смертельно-болезненную круговерть, что расслабилось до неприличия? Раньше оно не могло себе подобные капризы позволить, а раз мальчишки в надежных руках, то теперь можно? Интересно, как он там один с ними справляется? Когда приходит, говорит, что нормально. Но он же воспитанный очень, жаловаться не будет.
Вообще, она и не думала, что Лёня к ней так придет, сразу и насовсем. Думала, болтает попусту, и не ждала. Потому что кто она и кто он? Их рядом даже поставить нельзя, сплошная дисгармония получается. Он – словно только что с глянцевой журнальной обложки сошедший, такой красивый, весь модно-ухоженный, и она – маленькая и хлипенькая, с вечно серым цветом лица и синюшными губами сердечницы, с порядочным за спиной горестным стажем своего трагически-врожденного заболевания. Ну какой мужик на такую позарится? Смешно подумать. Да она, собственно, и не хотела этого. Как говорится, не приведи господи, потому что давно молодых-красивых мужиков за людей не считала. Все остальные люди, а молодые здоровые мужики – нет. Будь ее воля, она бы их всех отселила от остальных людей куда подальше, на остров какой-нибудь океанский необитаемый вместе с их дурными головами и другими мерзкими частями тела, которыми они так по-глупому гордятся и с которыми носятся, как с геройскими орденами-медалями. Только с Лёней исключение из правил вышло! Не люди они для нее, и точка. С тех пор такими стали, когда отчим, такой же молодой-красивый, изнасиловал ее, пятнадцатилетнюю больную дурочку-сердечницу. А интересно все же, почему отчимы так часто насилуют своих падчериц? Или просто падчерицам вообще так в жизни не везет? Судьба, что ли, у них такая?
Ей вот, можно сказать, до пятнадцати лет очень везло. Жила себе со старенькой бабушкой в маленькой однокомнатной квартирке на рабочей окраине, и никто ее не трогал. Бедно они, конечно, жили, но она даже и не подозревала об этом. Думала, все так живут – от пенсии до пенсии. Ни игрушек не было, ни нарядов девчачьих, ни утренников-праздников в детском саду. Одно только – постараться с тихого замедленного ритма не сбиться и ходить плавненько, тихонечко-осторожненько, резких движений не делать, не уставать, спать по утрам как можно дольше. Так и жила, не замечая ничего вокруг, словно плавала в розово-вязком тумане. Это врачи бабушку научили. Говорили, если доживет до пятнадцати лет – операцию сделаем. Вот она и хотела дожить. И бабушка тоже хотела до ее операции дожить. Все время только и повторяла: «Только из-за тебя господь меня к себе и не пускает, Алиночка. Живу ради тебя. Устала уже, а все живу и живу…»
– А как это – устала, бабушка? – спрашивала внучка с интересом. – Разве можно устать жить?
– Можно, внученька, – вздыхала горестно бабушка. – Когда всех своих деток переживешь, то можно и устать.
– А твои детки – это кто? Моя мама?
– Нет, Алиночка. Твой папа, младший сынок Митенька. А ты, стало быть, Алина Дмитриевна у нас.
– А мама моя кто?
– А ее я не знаю, деточка. Не успела с ней познакомиться. Оставила она тебя в роддоме да сбежала оттудова. Нет, ты не думай про мать плохого чего. Она от тебя не отказывалась, за собой записала, в метрике твоей отец да мать числятся, все как положено. Только, стало быть, не заладилось у нее чего-то с Митькой, вот и сбежала. Характер-то у него был шибко буянистый. А папа твой, стало быть, тебя забрал да мне принес. А сам помер вскорости. Да вон же, на стенке фотокарточка висит! Это твой папа и есть. Подойди, посмотри. Главное – тихонько, Алиночка. Нельзя тебе быстро-то.
Она и сама знала, что нельзя. Вернее, чувствовала. И боялась накатывающих приступов удушья, когда чья-то железная рука хватала ее за тонкое горло и начинала сжиматься медленно и верно, и ее маленькое синюшное тело покрывалось холодным потом и обмякало, как горячий пластилин. Она уже тогда знала, чья это рука – рука смерти. А по ночам на нее часто обрушивался потолок: упадет и давит на грудь, и никакого продыху от него нет.