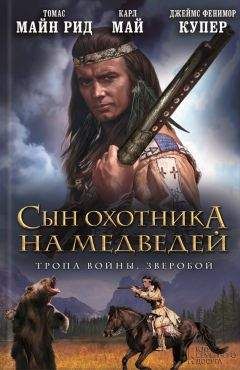Солдаты под командованием Голощекина, растянувшись цепью, шли по тайге. Остановившись в сотне метров от фанзы, среди частого ельника, который надежно укрывал их со всех сторон, они принялись ждать.
Капитан понимал, что дальше отмахиваться от назойливых приставаний Братеева нельзя. Не просто нельзя — опасно. Твердолобый сержант все равно не успокоится и, чего доброго, полезет со своими подозрениями к начальству. А этого Голощекин допустить не мог.
Он точно знал, что товар из фанзы уже забрали. Более того, он знал, когда придет следующая партия. Сегодня было самое время доказать исполнительному сержанту, что он ошибся.
Братеев приник к окулярам бинокля, покрутил юстировочное колесо, настраивая.
Китайская речь — быстрая, мяукающая — раздалась со стороны фанзы неожиданно. Голощекин мысленно выругался. Он тоже вскинул бинокль и, всмотревшись, увидел двух китайцев, подходивших к домику. Переговариваясь на ходу, они тащили большой и, судя по всему, тяжелый ящик.
Идиоты, подумал Голощекин, придурки узкоглазые. Никакой конспирации, прут напролом, будто тут им Шанхай, а не приграничная зона.
— Вот они, товарищ капитан! — не отрываясь от бинокля, возбужденно прошептал Братеев.
— Да вижу, — буркнул Голощекин.
С трудом разворачиваясь в узком дверном проеме, китайцы затаскивали тяжелый ящик внутрь. Он застрял, и мяукающая речь зазвучала громче и раздраженней.
Голощекин медлил. Если он даст им время уйти, сержант заподозрит неладное и насторожится еще больше. Нельзя ждать, нельзя. А с другой стороны…
Китайцы втащили наконец ящик и прикрыли дверь. Голоса их стали тише.
Капитан сделал знак рукой: приготовиться! Выждал немного и дал отмашку: пошли! Короткими перебежками они двинулись вперед. Ельник кончился, и Голощекин показал Рыжееву: заходи справа, Степочкину: заходи слева, Жигулину: оставайся в засаде.
Голоса китайцев вдруг смолкли.
Умаров вопросительно посмотрел на капитана, потом на дверь фанзы. Голощекин отрицательно покачал головой. Прислушался. Наконец махнул рукой и громко крикнул:
— Пошли!
С треском давя сапогами сухие упавшие сучья, солдаты ринулись к фанзе.
Умаров с разбегу вышиб дверь и, вскинув автомат, рявкнул:
— Стоять! Руки вверх!
Следом за Умаровым в фанзу влетел Братеев. Пробитое в противоположной стене окно было распахнуто настежь. Сержант высунулся по пояс и увидел, как китайцы карабкаются вверх по заросшему низким кустарником склону.
— Уходят, гады! — выкрикнул он и метнулся к двери.
— Отставить! — скомандовал Голощекин.
Братеев остановился:
— Но почему, товарищ капитан? — Он с отчаянием посмотрел на Голощекина и сник. — Есть, отставить, — хмуро сказал он.
Сержант понимал, что облажался. Он должен был помнить про это чертово окно, он сам в прошлый раз воспользовался им точно так же.
Голощекин подошел к Братееву, хлопнул его по плечу:
— Чего приуныл, сержант? Черт с ними! Пусть думают, что мы их не разглядели. Они еще вернутся, так что взять их мы всегда успеем. Ящик-то здесь. — Капитан кивнул солдатам: — Открывайте, ребята!
Умаров и Степочкин, подцепив штык-ножами крышку, принялись отдирать ее от ящика.
Про ящик расстроенный неудачей Братеев как-то забыл и теперь с нетерпением смотрел, как вылезают из своих гнезд гвозди, как летит в сторону крышка…
В ящике, плотно уложенные и аккуратно завернутые в полиэтиленовую пленку, лежали серебристые рыбины. Оттолкнув солдат, Братеев схватил одну из рыбин и сорвал прозрачную пленку.
— Ну что, сержант? — Голощекин отобрал у него добычу. — Хорошая рыбка. Хариус. — Он поднес рыбу к лицу, принюхался. — И свежая совсем… Слушай, может, тебе приснилось все, а?
Братеев вытащил другую рыбину и растерянно повертел ее в руках. Никакого порошка. И брюшки целые. Обычная снулая рыба.
— Да нет же, товарищ капитан, — пробормотал он, — там порошок был. Я своими глазами видел… — Он досадливо бросил рыбину обратно в ящик.
Голощекин широко улыбнулся и опять хлопнул Братеева по плечу:
— И на старуху бывает проруха, сержант. А за проявленную бдительность объявляю благодарность. — Он повернулся к солдатам: — Ладно, как говорится, с паршивой овцы чего?
— Хоть шерсти клок, товарищ капитан, — преданно подсказал Степочкин.
— Правильно, — подмигнул ему капитан. — Забирайте рыбу. Отдадите на кухню, там приготовят. — Он вдруг натолкнулся на упрямый взгляд Братеева. — Что, сержант? Чего-нибудь не так?
— Предупредили их, товарищ капитан. Они видели, что я здесь был и по ящикам рылся. А этот — для отвода глаз. Ну зачем им обычный улов в этой фанзе держать? Что, у себя места не хватает?
— Сержант, я понимаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть. — Голощекин уже не улыбался. — Осечка вышла. В следующий раз, когда померещится, сплюнь трижды. Вот так, — он смачно сплюнул на пол. — Мы за призраками не гоняемся, ясно?
Особист Ворон сидел в кабинете полковника Борзова и барабанил пальцами по столешнице.
— Что молчишь, Вячеслав Львович? — спросил Борзов.
— Не знаю, с чего начать, — тихо произнес Ворон.
— Мы с тобой, Вячеслав Львович, не первый день знакомы, — мрачно заметил Борзов. — Для разнообразия можешь, конечно, начать с конца, хотя ты прекрасно знаешь, что я предпочитаю с начала.
Ворон бросил на полковника быстрый взгляд и тут же отвел глаза. Дело, по которому он пришел, было достаточно деликатным, но только потому, что в какой-то мере касалось лично Борзова. К полковнику особист не испытывал ни особенной симпатии, ни особенной антипатии — точно так же, как и ко всем остальным. Впрочем, симпатии вообще он не испытывал ни к кому, а о своих антипатиях предпочитал докладывать в других инстанциях. Но не считаться с полковником он не мог, потому демонстрировал сейчас некое замешательство.
Но Борзов отлично знал особиста, и эта фальшивая нерешительность его не обманула.
— О Столбове хочешь поговорить? — спросил полковник. — Виноват, знаю. Накажем.
— Не жалко? Он ведь не чужой вам.
— Жалко у пчелы в заднице, — жестко ответил Борзов. — Жалко, конечно. Но я его сюда не из жалости брал, так что отвечать будет по всей строгости. Только ты не крути, ты мне честно скажи: что, под трибунал хочешь его подвести?
Ворон молчал. Он отлично понимал, что на трибунал тут не наскребешь. В конце концов, не Столбов же Васютину дуло к груди приставил. В таком деле виноватого найти трудно. А начнут искать — неизвестно еще, чья голова полетит. Но Столбова надо убирать.
Накануне к особисту зашел Голощекин, и они проговорили почти час. Капитан ни разу не упомянул о том, о чем знали все: его жена Марина крутит роман с лейтенантом. Отношения свои эти двое, понятное дело, скрывали, но разве скроешь что-нибудь в таком маленьком городке? Ворон смотрел на адюльтер сквозь пальцы — как ни странно, у него были для этого личные причины. В свое время он и сам вылетел из удобного кресла на Лубянке не без помощи особы женского пола, даже двух — свихнувшейся на религиозной почве старухи и ее внучки, в которую Вячеслава Львовича, ведущего бабкино дело, угораздило влюбиться. Об этом, как надеялся Ворон, в полку никто не знал, но он не сомневался, что в нужном месте проступок его хорошо помнят. Потому докладывать о моральном разложении в гарнизоне особисту было, как ни круги, невыгодно.