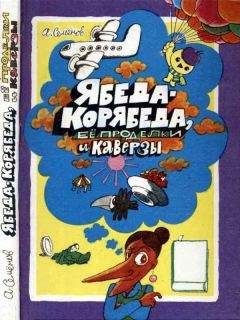— Тася… — Мать отодвигает от себя кофе и разочарованно качает головой. — Что за бардак в твоих мыслях?!
— Ты обещала… Три вопроса… — смущённо бубню себе под нос. — Для меня это важно…
— Прости, но таких подробностей я о Гере не знаю. — Она суетливо поднимается и подобно Савицкому спешит оставить меня одну. — А ты, Тася, если закончила с омлетом, возвращайся к себе, ладно? Экзамены на носу…
Я никогда не была послушной. Примерные девочки всегда вгоняли меня в уныние. Наверно, поэтому моими лучшими друзьями были парень без царя в голове и Амели — сущий дьявол в юбке. Сколько себя помню, я всегда поступала наперекор. Испытывала судьбу и саму себя на прочность. Я мало чего боялась, а отец часто рвал на голове волосы, придумывая для меня все новые и новые оправдания, в очередной раз просиживая штаны в кабинете директора школы. Впрочем, папа никогда не ругался, понимая, что я так устроена. Чрезмерное любопытство и жажда жизни — в этом нет ничего плохого! И только школьные психологи играли моим внутренним миром, как в бадминтон, перекидывая моё личное дело из рук в руки. Во мне постоянно пытались отыскать изъян: одни ссылались на недостаток материнской заботы, другие винили отца в его излишней мягкости и отсутствии должного контроля за мной, а третьи — мои самые любимые — признавали неисправимой и махали на меня рукой.
Наверно, если бы мама была психологом, её смело можно было отнести к третьей группе. Она никого не винит: ни себя, ни отца. Она просто уходит, в очередной раз наплевав на меня и мои вопросы. А я по обыкновению не спешу её слушаться и вместо своей комнаты бегу наверх — туда, куда нельзя и где мне вряд ли будут рады.
Среди одинаковых дверей я без труда нахожу ту, за которой живёт своей сумасшедшей жизнью Гера. Та — самая дальняя, самая тихая, самая пугающая. Но я не позволяю себе раскисать: быть должной Турчину куда страшнее безобидного вопроса Савицкому…наверно…
Стук. Он зловещим эхом разносится по коридору и прячется под плинтусами, возвращая гнетущую тишину на место.
Дрожь. Она врассыпную щекочет тело, особенно жадно поколачивая кончики пальцев на моих руках.
Савицкий. Он нем как рыба. Ни слова в ответ, ни шагов, ни недовольного ворчания.
Однако стоит мне провернуть дверную ручку, дабы войти в чужую обитель, раскатом оглушающего грома меня откидывает на несколько шагов назад:
— Вон! — не рычит — извергает из себя Савицкий на пределе человеческих возможностей. — Пошли все вон!
Я не совру, если скажу, что от голоса Геры вибрируют стены. Да что там — весь мой хрупкий мир дрожит похлеще пальцев на руках!
Где-то внутри отчаянно бьётся сердце, а интуиция приказывает уйти прочь. Но вопреки всему я снова подхожу к дверям.
— Гера… — Касаюсь щекой отполированной древесины и жадно прислушиваюсь к шагам Савицкого. Правда, вместо них слышу его дыхание — немного хриплое, шумное, неровное. От осознания, что нас разделяет не более полуметра, у меня мутнеет перед глазами. Я не дура! Кто такой Савицкий, уже успела узнать не понаслышке, но и отступить не могу!
— Гера, давай поговорим! — Я не узнаю своего голоса. Пропитанный животным страхом и отчаянием, он слишком глухой и низкий.
— Убирайся! — требует парень и со всей дури заряжает кулаком в дверь, попадая в эпицентр моего напряжения. Я вздрагиваю и беззащитно пищу, но сойти с места не решаюсь.
— Только один вопрос, и я уйду! — продолжаю навязываться придурку, правда, больше не успеваю сказать ни слова.
Дверь. Она открывается слишком резко, будто с петель её срывает скоростной поезд, несущийся с крутой горы вниз. С размаху она сносит меня с ног и больно ударяет по лбу — до искр из глаз, до жалобного стона. Я падаю. Валюсь на пол безжизненной тушкой и вспоминаю, как по осени ругался старый дворник возле нашего с отцом дома, когда непокорные листья, сколько ни мети, заполоняли своим золотом тротуары. Ещё немного, и я заговорю словами дяди Васи!
— Ты больной?! Совсем отмороженный?! — верещу, соскребая себя по кусочкам с холодного пола. Растирая лоб, пытаюсь встать. Я и сама сейчас напоминаю сумасшедшую, готовую расцарапать смазливую физиономию Геры.
— Ты же знал, что я здесь стою! — не унимаюсь, но, судя по всему, говорю с пустотой. Свалив меня на пол, Савицкий запросто перешагивает через меня и идёт прочь, не обернувшись и не сказав мне ни слова.
— Псих! — отчаянно ору ему в спину, но результат нулевой.
Меня душит обида, ушибленный лоб горит огнём, и всё внутри сводит от желания поставить идиота на место. Поэтому, наспех одёрнув сарафан, бегу следом.
— Ты даже не извинишься, да?
Я забываю о Турчине и о своём долге, о рассказах Милы и предостережениях Ники. Я просто несусь за Савицким сначала по длинному коридору, потом по нескончаемой лестнице, наивно ожидая от парня элементарного «прости». Но тот молчит, с каждой секундой набирая скорость.
— Да стой ты, Гера! — На одном из лестничных пролётов цепляюсь за тонкую трикотажную футболку, облегающую мощную спину Савицкого, как вторая кожа.
Он замирает и, кажется, увеличивается в размерах! По крайней мере, удерживать его за клочок влажной от пота ткани становится неимоверно сложно.
Запыхавшись, никак не могу отдышаться. Да и Савицкий прерывисто втягивает носом воздух и — провалиться мне на этом месте! — дрожит всем телом так, как если бы его свалила с ног страшнейшая лихорадка.
— Тебе плохо? — спрашиваю, заметив капельки пота на его стальной шее. Одна за другой они проступают на границе кожи и короткого ёжика чёрных волос, а потом стекают за шиворот, оставляя после себя манящие своим переливистым блеском дорожки влаги.
Я забываюсь и, выпустив из пальцев футболку Геры, как завороженная, тянусь к его напряжённой шее. Всего одно касание, невесомое, неуловимое, но Геру начинает трясти.
— Что с тобой? — Испуганно отдёргиваю руку и даже отступаю на шаг. В голове насмешливой трелью бьётся мысль: «Тебя предупреждали, Тася, не лезь». Но голос разума смолкает, стоит Савицкому обернуться.
Он почти не моргает. Смотрит в одну точку пугающе отрешённым взглядом и неистово стискивает челюсти, словно силой вынуждает самого себя держать язык за зубами. Его по-прежнему трясёт. А мне становится искренне жаль Геру: это страшно, когда ты не властен над собственными демонами.
— Прости… —Я снова робко тянусь к нему пальцами, наивно полагая, что Савицкому просто не хватает человеческого тепла.
Я знаю по себе: когда тебе плохо, одиночество не союзник. Когда вопит душа, человеку нужен человек.
Только я снова ошибаюсь: в Савицком от человека — одна оболочка. Внутри Геры всё выжжено дотла, до чернильной пустоты.
Гера отмахивается от поддержки, как от назойливой мухи. Безжалостно схватив меня за запястье, он с силой сжимает его в своей ладони — до синих отметин и хруста моих тонких костей.
— За что? — вопрошающе гляжу на Савицкого снизу вверх. — Что я тебе сделала?
Меня ломает от боли и скрючивает от холода, с которым Гера смотрит на меня в ответ. Вот она, глубина, которой боюсь больше смерти! Она не в бассейне, не в озере. Пугающая глубина — в глазах Савицкого, безжизненных, жестоких, безумных.
Гера не отвечает, с каким-то остервенением наблюдая за моими мучениями, а, насытившись ими вдоволь, резко ослабляет хватку и уходит. Спускается по лестнице как ни в чём не бывало и растворяется в дальнем крыле дома. Не знаю, что он там забыл, да это и не имеет значения. Губы дрожат от бессмысленного унижения и бесконечных вопросов. Мой разум заволакивает чернотой, а в мозгу пульсирует желание найти ответы любой ценой.
Через силу беру себя в руки и, смахнув с лица непрошеные слёзы, быстро ступаю серебристыми балетками по следам Савицкого. И дело здесь уже не в Турчине.
Дом Мещерякова напоминает лабиринт. Я живу здесь уже больше месяца, но до сих пор путаюсь в бесконечных коридорах и дверях. Вот и сейчас, подгоняемая желанием поскорее найти Геру, я то и дело попадаю не туда: то врываюсь в кабинет Вадима, то упираюсь носом в пропахшую стиральным порошком прачечную. Прислушиваюсь к звукам, жадно выискиваю взглядом Савицкого, но все без толку. Парень словно испарился!