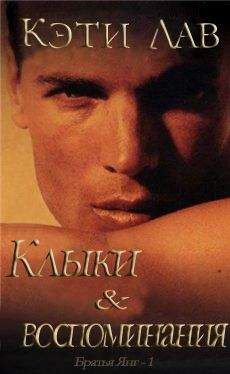Вряд ли им являлся граф Дракула. Но не мог ли это быть дядя Эржбеты? Сам король? Что ж…
А в-третьих, жизнь человеческая по тем временам была очень дешева. И, может, конец преступлениям графини положила бы только смерть. И случилось бы это очень не скоро – Эржбета была в расцвете зрелости, она вовсе не собиралась умирать и с каждым днем становилась лишь красивее. Но графиня запуталась в своих финансовых делах и нуждалась в средствах. Чтобы пополнить казну, Эржбета заложила один из замков. Это почему-то обеспокоило опекуна ее сына. Пан Медьери заволновался, а когда с ним такое случалось, то… В общем, произошел скандал. Эржбету вызвали в Прешбург, куда съехались все вельможи, заинтересованные в фамильной чести семейства Батори-Надашти.
Медьери решил замять дело.
– Пусть развлекается, как хочет, но не трогает денег! – такова была его позиция.
В знак дружбы графиня прислала опекуну сына прекрасный пирог, и Медьери совсем было собрался расчувствоваться, но решил для начала дать отведать гостинца собачке. Левретка немедленно издохла, и пан ощутил благородное негодование. Тут же собрались другие свидетели злодеяний графини. Священник внезапно перестал страдать провалами в памяти и припомнил, скольких истерзанных девушек ему пришлось отпевать. Зять Эржбеты рассказал, как его пес вырыл в саду графини и притащил в дом отрубленную руку с медным перстеньком. Дочки Эржбеты при имени матери заливались слезами.
На судилище родственников графиня не явилась – она бежала, укрылась в стенах Чахтицкого замка.
– Проветрите комнаты. Застелите постели. Готовьте пир, – приказала Эржбета слугам. – Скоро ко мне приедут знатные гости.
В замке поднялся переполох. Несколько доверенных слуг отправились в подвал, чтобы скрыть следы кровавых оргий графини.
Эржбета удалилась в свои покои. Нагая встала перед зеркалом. Обмывалась душистой водой, пудрила плечи, румянила щеки. Подводила веки краской из жженого лесного ореха. Как зачарованная, расширенными зрачками смотрела в расширенные зрачки своего отражения. Попыталась расчесать спутанную массу волос, но у нее не вышло. Позвала служанку Дорису – любимую, неприкосновенную. Как ни безумна была Эржбета, но выгоду свою понимала хорошо и не трогала девушки, прошедшей обучение у знаменитых парикмахеров Вены. Дориса касалась щеткой волос госпожи, и та расслаблялась, закрывала глаза, безумие, которое она ощущала, как непрестанное, мучительное давление на череп, отпускало ее.
Девушка неловко воткнула шпильку, оцарапав кожу на черепе графини. Та вздрогнула и распахнула глаза.
И, кроме своего отражения, увидела еще и отражение служанки.
Зеркало льстило ей. В угоду минутному капризу оно изменило облик Дорисы, сделав смазливое личико прекрасным, стройную фигурку утонченной. И в угоду той же злой фанаберии – исказило лицо графини, превратив его в отвратительную харю растленной, безумной старухи. Не дыша, стояла Дориса, напуганная и польщенная, не в силах отвести глаз от своего отражения, и губы ее шевелились, поверяя зеркалу невероятные мечты…
Эржбета завизжала, как раненая лисица. Сначала она била и царапала не смевшую сопротивляться служанку, потом принялась кусать ее. Вид крови, как обычно, привел Эржбету в бешеный восторг. Она жалела, что в ней недостаточно сил для того, чтобы руками разорвать тело девушки, чтобы захлебнуться в ее крови. Графиня схватила раскаленный утюжок, приготовленный для того, чтобы выгладить оборки, и прижала его к лицу Дорисы. Та истошно закричала и потеряла сознание. Эржбета уселась на нее верхом и стала запихивать утюг девушке в рот.
Нагрянувшие «гости» увидели картину, которая заставила бы содрогнуться самые закосневшие сердца.
Безумная Эржбета в платье из золотой парчи, залитом кровью, сидела у зеркала, расчесывала волосы и напевала детскую песенку. У ног графини, на полу, лежала мертвая, изуродованная служанка. Другие слуги разбежались в страхе перед наказанием. Подвал остался неприбранным – там нашли железные клетки, в которых держали девушек, ванну со следами высохшей крови и «железную деву», на иглах которой остались куски плоти.
От запаха крови и гнили кружились головы у солдат. В темном углу подвала они нашли спрятавшегося, хныкающего горбуна.
– Я несчастный калека! Не трогайте меня! Не обижайте! – бормотал Фицко, пробираясь к выходу.
Но его богатый кафтан и золотые украшения никого не могли ввести в заблуждение, солдаты поймали уродца и засунули в одну из клеток.
Занявшись горбуном, чуть не забыли про Эржбету. Как выяснилось, она вовсе не потеряла рассудка. Напротив, графиня совершенно пришла в себя и попыталась скрыться. Набросила на парчовое платье темный плащ, собрала саквояж с необходимыми вещами, куда вошли щипцы, которыми она поправляла непокорные пряди и наказывала непокорных горничных, сама запрягла коня в возок…
Ее остановили уже за воротами.
– Вас интересуют мои служанки, паны? – удивилась Эржбета. – Вот, прошу вас. Правда, некоторые сюда не попали – я порой ленилась вести записи.
Она сама достала из саквояжа и отдала фолиант в кожаной обложке – уж не человеческая, не девичья ли кожа пошла на переплет? В этом мартирологе графиня вела счет своим злодеяниям. Увы, имен некоторых служанок она не помнила или никогда не знала.
Сто шестьдесят девятая. Длинные волосы. Ругалась и проклинала до последнего.
Двести вторая. Невысокая, с детским лицом, все время плакала.
Четыреста сорок четвертая. Оказалась беременной. Плод двигал пять минут ручками и ножками на полу после того, как матери вспороли живот.
Безымянные, безликие. Чьи-то сестры, дочери, невесты. Шестьсот пятьдесят жертв. А ведь Эржбета еще «иногда ленилась записывать»!
Судьям понадобилось все самообладание, чтобы не убить графиню на месте. За ее преступления ответили подручные служанки. Илона и Дорка были заживо сожжены на костре. Горбуну Фицко отрубили руки, ноги, а потом и голову. Эржбету присудили к домашнему аресту.
Это был не простой домашний арест – каменщик замуровал в покоях графини окна и двери, оставив одну узкую щель, в которую могло разве что ведро помойное пролезть. В вечной тьме и ужасном зловонии доживала Эржбета свои горестные дни.
Она питалась скудно, но никогда ни с кем не заговаривала, не жаловалась, ничего не просила, и ни слез, ни крика не слышно было из темницы.