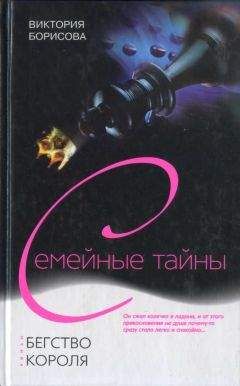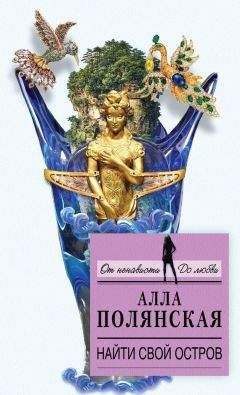Голова навинтилась, и он открыл глаза.
— Спать! — сказал Банан.
Сестра улыбнулась, молча помогла ему встать из-за стола и добрести до комнаты.
Которая много-много лет назад была его комнатой.
А сейчас стала комнатой ее дочери.
Но ничего этого он не сознавал, не раздеваясь, ничком рухнул на заботливо застеленный диван и отрубился, и никакие сны не приходили к нему этой ночью, а уже поздним утром, морщась от жуткой головной боли и ощущая во рту горечь и мерзость миллиона змей, Максим разлепил глаза и увидел яркое солнце, бьющее сквозь легкую прозрачную штору.
Он посмотрел на одну стену, на другую, перевел глаза на потолок и вдруг все понял.
Тот придурок говорил о…
Не так важно, был он когда-то Палтусом или не был, но он имел в виду…
Максим сполз с дивана и начал гоготать.
На всю комнату, абсолютно идиотским, нечеловеческим смехом.
Сестра ворвалась в дверь, как была — полуодетая.
— Максим, — закричала она. — Максим!
А Максим катался по полу от смеха и повторял себе под нос:
— Сперма Палтуса!.. Сперма Палтуса!
За завтраком Мартышка, с состраданием глядя на брата, достала из холодильника чуть пригубленную вчера бутылку водки и налила ему сто граммов — на опохмелку.
Банан махом влил в себя рюмку и потянулся вилкой за последним кусочком морского гребешка, белевшим в мутной лужице горчичного соуса.
— Помнишь, — неожиданно спросил он сестру, — как нас мать этим закармливала?
— Да! — ответила та, действительно вспомнив, как вместо мяса мать жарила им на сковородке белые упругие ломтики филе морского гребешка, и они поедали его тарелками.
Брату зачем-то надо было говорить о Палтусе, а сестре этого совсем не хотелось.
Она рассказывала Максиму о том, что ее по-настоящему занимало в последние годы, а брат вежливо слушал, выпил еще рюмку, закусил ломтиком копченой горбуши, но от третьей отказался.
В кармане у него лежал обратный билет на завтрашнее утро, а он до сих пор почти ничего не выяснил.
Лишь смутная догадка, во время завтрака переросшая в уверенность. Не более того.
Мартышка чувствовала, что Максим скучает, но ей было приятно разговаривать хоть с кем-то из родных, уже давно переселившихся поголовно на Запад, а здесь — крайняя точка Востока, дальше только море. Море сегодня, скорее всего, спокойно — на улице безветренно, и даже небо кажется свободным от туч.
Однако брат продолжал расспрашивать ее о Палтусе.
Она вздохнула, встала из-за стола и ушла в свою комнату.
Банан закурил, наконец-то он смог себе позволить первую утреннюю сигарету: голова отошла, тело уже не ломило, да и шея перестала болеть; кстати, он совершенно не мог понять, что произошло вчера с его шеей — еще перед завтраком она горела, будто по ней полоснули ножом.
Мартышка вернулась и протянула Банану старый, серый конверт с треугольным штампом на лицевой стороне.
— Взгляни, — сказала она. — Это все, что у меня есть. Его родители мне передали…
Банан достал из конверта бумагу, пожелтевшую, вытертую на сгибах.
Официальное извещение.
Курсант такой-то исчез при выполнении служебных обязанностей.
Без вести пропал…
Был Палтус — и нет Палтуса!
Какие служебные обязанности могли быть у курсанта первого года обучения в странном заведении с плохо произносимым названием?
Даже не названием — аббревиатурой.
ВКУППВКР.
В голову приходит лишь «Высшее командное училище попыток проникновения в космический разум».
Эти ПП могли оказаться и психотропными погранвойсками, и противолодочными прививками, и Бог знает чем еще, но результат один: Палтус выполнял служебные обязанности в вышеозначенном ВКУППВКР — и пропал.
Родители получили бумажку, а потом отдали ее безутешной Мартышке.
Вскоре Мартышка вышла замуж и родила дочь.
Родители Палтуса из города уехали.
Мартышка развелась, а еще годы спустя Банан увидел во сне странного черного типа.
Ясно, что черный говорил о сперме Палтуса; надо только догадаться, что конкретно он имел в виду.
— Ты когда улетаешь? — спросила сестра, откровенно радуясь тому, что Максим больше не донимает ее расспросами.
— Завтра, — ответил он. — Завтра утром.
— В город пойдешь?
— Я хотел бы в школу зайти! — сказал Банан.
Мартышка прыснула.
— Ты чего? — удивился Максим.
— Там давно не школа, — пояснила она. — Там сейчас это…
— Что — это?
Она опять засмеялась, а потом выдавила:
— Краевой банк спермы!
И опять залилась смехом, а Максим посмотрел на нее, и по его спине побежали мурашки.
Ниточка начинала разматываться.
Необходимо добраться до центра лабиринта.
Держась за кончик этой ниточки, понятно, какого цвета, — у спермы почти всегда один и тот же цвет.
Мурашки исчезли, но спине вдруг сделалось холодно.
Он стоял у края пропасти, и ему предстояло прыгнуть.
Там, на дне, — камни. И журчит ручеек.
Но журчит далеко внизу, и Банану придется лететь, а потом он шмякнется о камни и разобьется.
Или не разобьется; все зависит от того, насколько правильно он понял слова Адамастора.
Где-то он уже слышал это имя, где-то и когда-то.
Давно, очень давно.
— Что с тобой? — спросила сестра.
— Я пройдусь, — ответил он. — Я недолго.
— Я сегодня дома, — сообщила она. — Суббота, я тебя еще в порт провожу…
— Не надо, — сказал Максим. — Не маленький…
— Провожу, провожу! — настаивала Мартышка.
— Там посмотрим! — пробормотал Банан, поцеловал ее в щеку и отправился на улицу.
Спустился по лестнице и вышел из подъезда.
Ему вдруг захотелось вниз, к морю; прогуляться по берегу, полюбоваться кучами бурых водорослей, выброшенных ночной волной, может, порыться в них, высматривая небольшие черные ракушки, да просто — подышать крепким, одурманивающим настоем соли и йода.
И он действительно пересек площадь и начал спускаться вниз, решив, что разочек посмотрит на вывеску у входа в бывшую школу, а потом пойдет к морю — глазеть на водоросли и искать ракушки.
Дверь была заперта.
А рядом висела черная табличка, на которой золотыми буквами было написано пять слов.
«Краевой центр репродукции и генетики».
Банан подергал дверь, затем постучал.
Безрезультатно.
Сегодня суббота, у сотрудников выходной.
Должен быть сторож, но он или заснул, или ушел.
До вечера.
Банан посмотрел на окна — наглухо задраены, попасть внутрь не представлялось возможным.