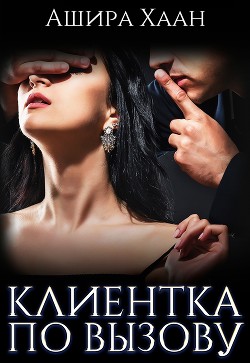Что ему делать на нашем этаже? С другой стороны, помня о том, что происходило позже, я сомневаюсь, что он искал со мной встречи сам.
Но факт — я заметила его и помахала, а он почему-то завернул в парфбутик и подошел к нам.
Маринка тут же включила профессиональную улыбку:
— Вам что-нибудь показать?
— Нет, нет, — покачал головой Герман. — У тещи скоро юбилей, но я не уверен, что попаду в ее вкусы. Духи, пожалуй, стоит подбирать лично.
— А себе? — Маринка сделала шаг к нему и втянула носом воздух. — Хьюго Босс? Вам, конечно, идет, но с вашим статусом нужно что-то более изысканное и оригинальное.
— Она имеет в виду — дорогое, — засмеялась я.
— Это тоже, — с достоинством сказала Маринка, поведя плечом. — Парфюм человека должен меняться вместе с ним. Но столько серьезных людей до сих пор пользуются подаренным им в юности «Фаренгейтом»…
Она процокала на своих тонких шпильках к полкам с мужскими духами и ловко вильнула бедром, разворачиваясь к нам. Я сделал большие глаза. Не на ту дичь нацелилась! Герман женат!
Но она проигнорировала мои страшные взгляды и окинула его с ног до головы оценивающим взглядом.
— Я думаю, вы достаточно мужественны, чтобы вам подошел унисекс… — задумчиво проговорила Маринка. — Вы не боитесь плыть против течения, поэтому можно отойти от модных тенденций… И я бы постаралась смягчить ваш строгий образ чем-нибудь неожиданным. Пожалуй — вот. Давайте запястье.
Она ухватила Германа за руку, сдвинула манжету рубашки и пшикнула на его левое запястье. Он с интересом смотрел на ее действия.
— Думаете, этот запах подходит мне лучше? — Герман поднес запястье к носу и замер на несколько мгновений, задумавшись.
— Конечно, лучше. Смотрите, тут строгий аромат розмарина подчеркнут черным перцем и миндалем. С одной стороны он звучит дорого и не банально, с другой — своей нетривиальностью вызывает интерес.
— Хммм… — он сомневался.
— Лан, скажи! — Призвала Маринка меня в свидетельницы.
— Со всем согласна! — подняла я руки, сдаваясь.
— Нет, ты подойди, понюхай! — Она была настойчива. — Будь свидетельницей, что я идеально подобрала парфюм. Человек как будто родился в нем.
— Я оттуда слышу, что идеально, — попыталась я отбиться.
— Лана!
Я закатила глаза и сделала несколько шагов к Герману. Взяла его запястье, развернула внутренней стороной к себе и втянула носом воздух.
Холодные камни, влажный мох, пряный розмарин, разогретый северным солнцем — и бесконечное синее небо. Как будто… Как будто это действительно запах Германа, его настоящий холодный стильный аромат, таящий в глубине терпкие травяные ноты.
Я подняла глаза на него — и ответный взгляд вышиб из меня дыхание.
Черные глаза, розмарин, мох, камни, черные глаза, небо, холодный ветер, черные глаза — и в глубине их — страх.
Такой же, как у меня.
Мне кажется, что я лечу в глубину бесконечно расширяющейся вселенной и утягиваю его следом.
Этот холодный ветер, окутавший меня запахом трав, мгновенно замороженная кожа — это же страх?
Герман смотрит на меня, цепляющуюся за его рукав отчаянно, словно я тону и говорит очень спокойным голосом:
— Мне нравится. Пожалуй, возьму.
И не отводит от меня глаза, пока Марина, чья болтовня кажется мне сейчас не яснее шелеста листьев, упаковывает флакон и пробивает его.
Был ли это последний момент, когда мы могли свернуть с дороги в пропасть?
Или уже не могли?
Когда я вечером вышла с работы — его машина ждала меня у обочины.
Сейчас. Ты слишком мужчина
«А я нет».
Слова отзываются во мне вспышкой, взрывом… надеждой.
На то, что однажды мы найдем выход из этого лабиринта, по которому блуждаем уже несколько месяцев, каждый раз, увидев новый поворот, надеясь, что это путь к свободе.
К любой свободе — друг от друга или от вины.
Мы расцепляем руки и бежим — иногда в разные стороны, чтобы потом неминуемо встретиться в уже знакомых стенах. И по взглядам понять, что мнимая свобода снова оказалась тупиком.
Я верю ему.
И не верю.
Просто сейчас он отказывается искать выход.
А я наоборот.
Завтра все может поменяться.
Но я не могу не отреагировать на его слова.
Я склоняюсь к его губам и касаюсь их.
Герман не сразу отзывается на мой поцелуй — сначала он стискивает губы крепче, но я провожу кончиком языка по шершавой и упругой их поверхности, нажимаю, чуть-чуть проникая между ними. Его несгибаемое упрямство длится всего несколько мгновений, но каждый раз я успеваю ощутить боль отвержения и отчаяние. Неужели он больше никогда не ответит на мой поцелуй?
А потом его губы поддаются, мой язык скользит внутрь, ударяясь сначала о гладкие и твердые зубы, а потом сплетаясь с его языком. Каждое мгновение этой борьбы и капитуляции я ощущаю так остро, словно это последние мгновения моей жизни и единственное, что мне осталось ощутить в этом мире.
Вспоминаю притчу про монаха, который упал с обрыва, но успел ухватиться за свисающий корень. И вот корень скользит в его руках, трещит, он сползает все ниже и ниже… и монах видит выросшую на краю обрыва ягодку земляники. Он срывает ее, ест — это самая вкусная земляника в его жизни.
Что потом будет с этим монахом?
Никто не знает.
Притча не об этом.
Главное в ней — жить здесь и сейчас. Чувствовать только то, что есть.
Время останавливается — нет, времени вовсе не существует.
Как в тот вечер, когда он ждал меня с работы. Он просто предложил меня подвезти, потому что на улице снова лил дождь. И я снова забыла зонтик.
Всего лишь пара невинных фраз — и дорога в сгущающихся сумерках под стук капель по крыше машины. Дворники, методично сгоняющие воду, заливающую лобовое стекло, расплывшиеся алые кляксы стоп-огней и многолучевые звезды ярких фонарей вдоль дорог.
Обрывки разговоров — мы обсуждали, как выбирать чай, что за новое здание построили на площади, о том, какая машина безопаснее — «тойота» или «вольво», где лучше проводить отпуск.
Сумерки переходили в ночь, огней было все больше, мы промахнулись мимо моего дома и катались по центру, сбегая от пробок в темные дворы.
Помню и разговоры, и дворы, и огоньки, и то, как кончился дождь.
Не помню, о чем думала.
Кажется, ни о чем.
Просто ощущала этот разговор