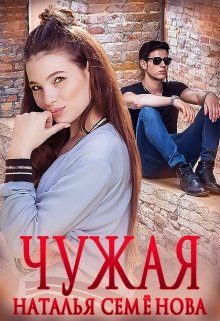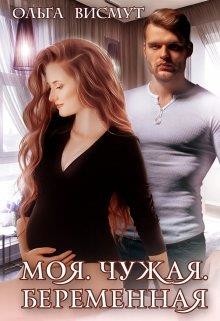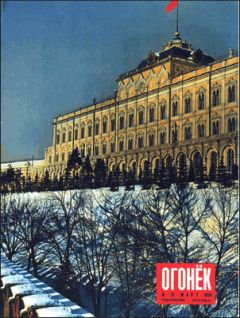есть ты согласилась, чтобы ему понравиться?
— Нет! — округляю я глаза, а затем ворчу: — Он вынудил меня согласиться.
— Понятно... И что ты чувствуешь?
— К нему? Ничего я к нему не чувствую! Если только раздражение...
— А к ситуации в целом? — явно сдерживает мужчина снисходительную улыбку.
Чёрт. Громов мне и здесь покоя не даёт. Одни проблемы от него!
Я заставляю себя успокоиться и говорю ровно:
— Я ведь сюда не отдыхать приехала, а исправляться. Вот и исправляюсь.
— Смирилась, выходит?
— Да.
— Понял. А теперь расскажи о своей семье?
Это предложение мне нравится гораздо больше, чем говорить о своих чувствах.
Про родителей Эльвиры я выучила всё назубок, как то единственное стихотворение в девятом классе.
Я вас любил, любовь ещё, быть может... и так далее.
Я расслабляюсь и рассказываю, рассказываю. Игорь Олегович иногда задаёт мне вопросы, часто соглашается с «моим» мнением, слушает внимательно и как будто с интересом. Так и проходит время.
— Что ж, хорошо, — говорит мужчина, когда я, кажется, рассказываю всё, что могла. — Закончим на сегодня. Был очень рад пообщаться с тобой, Эльвира.
— Всё?
— Да, можешь идти.
Я задерживаюсь в коридоре на пару минут, чтобы проанализировать разговор с директором и понять, не накосячила ли с ответами. Кажется, всё прошло нормально. Растерялась, конечно, вначале, но затем взяла себя в руки. Короче, можно выдыхать.
Я улыбаюсь самой себе и направляюсь к лестнице. Интересно, а со Стасом тоже уже закончили или нет?
Заворачиваю за угол и снова цепляюсь взглядом за пианино, которое видно в открытую дверь кабинета. Только на этот раз на нём кто-то играет. Очень неплохо, кстати. Мелодия экспрессивная и завораживающая. Всегда поражалась людям, которые умеют что-то подобное.
Подхожу ближе, чтобы посмотреть на музыканта, да так и открываю рот...
Громов.
Никита Громов — пианист. Музыкант. Талантливый и увлечённый.
С ума сойти!
Я как заворожённая наблюдаю за его пальцами, порхающими по клавишам; за напряжёнными, сильными руками; за играющими на спине мышцами.
Невероятно.
Он — невероятный.
А я... Я перестаю понимать что-либо...
Впрочем, сейчас мне это и не нужно. Сейчас я просто хочу наслаждаться музыкой и тем, что вижу. Потому что... это цепляет. Очень сильно. Так, что нереально отвести глаз. Так, что внутри меня что-то неуловимо меняется.
А следом меняется и мелодия...
По телу прокатывается тревожная волна узнавания.
«In The End»... Linkin Park... Её невозможно не узнать!
Боже, потрясающая песня, и слышать её на пианино... Полный восторг. Как взлететь к звёздам, не меньше.
Что этот парень со мной творит?..
Ближе к куплету мне невыносимо сильно хочется слов, я даже открываю рот, чтобы пропеть их безмолвно, но тут начинает петь сам Громов... Честно? Я едва не съезжаю по стене вниз от нахлынувшего изумления и чувств, что рождает во мне его голос.
— Да ты издеваешься, — выдыхаю я едва слышно.
Но у кого-то слишком чуткий слух. Музыкант же...
Громов резко замолкает, обрывая и мелодию и, нахмурившись, смотрит себе за плечо.
— Дверь была открыта! — спишу я оправдаться. — Прости, что помешала. Я не назло.
— Что-то новенькое, — отвернувшись, глухо бросает он и закрывает крышку пианино.
— Нет-нет! — быстро прохожу я к инструменту и открываю крышку. — Продолжай играть. Я уйду.
— Спасибо, — хмыкнув, снова опускает он крышку. — Наигрался.
Никита поднимается с места и разворачивается к выходу. На лице при этом маска полного равнодушия. Но в красивых глазах промелькнуло подобие огня. Наверное, я последняя из тех, кем он предпочёл бы быть застигнутым врасплох.
— Ник...
Я не представляю, что хочу сказать... Не представляю, что со мной происходит... Но оставлять между нами всё как есть не хочется. Вот как, прикажете, мне на него злиться после того, что я сейчас увидела и испытала?
Внутренние изменения требуют и внешних.
Никита останавливается и медленно разворачивается обратно. Поднимает брови и ждёт. Я закусываю нижнюю губу, делаю шаг ближе к нему, но смотрю при этом куда угодно, только не в его глаза.
— Я хотела... хотела извиниться... И сказать... сказать спасибо. За лес. Вот.
Никита молчит. Как по мне, слишком долго. Я не выдерживаю и поднимаю на него глаза. Он хмурится, словно решает какую-то задачку, а затем тоже делает резкий шаг ко мне. Сужает глаза и спрашивает тихо:
— Ты правда думаешь, что я не узнал твои веснушки или глаза? Не узнал твой голос или смех? Правда наивно полагаешь, что за эти дни я не постарался узнать побольше о Эльвире Королёвой? Если так, то зря. Поэтому, пожалуй, уточню. — Пока я нахожусь в состоянии шока, он склоняется ещё ближе и выдыхает у моего лица: — Кто. Ты. Такая?
Вот чёрт.
Два месяца назад...
Я не представляю, что делать. В груди занозой сидит тревога. Мне страшно. Так, как никогда не было прежде...
Захожу в пропахнувшую алкоголем квартиру и морщусь. Ненавижу это место. Здесь не осталось ничего, что напоминало бы о хороших временах. О любимой маме, её добрых глазах и тёплых руках. Отец очень постарался уничтожить всё. Ненавижу его!
Врываюсь на кухню, задевая ногой у порога пустые бутылки. Они падают и гремят по грязному полу. Этот алкаш отдирает свою рожу от жирной столешницы и что-то бурчит. Потревожили его, видите ли!
Подхватываю со стола бутылку, на дне которой плещется жидкость ещё на пару рюмок, и со всей силы запускаю её в стену. Звон разбитого стекла режет слух, сильнее взвинчивая злость внутри. Я нависаю над отцом, который ещё не успел осознать случившегося, и ору:
— Ты!.. Нормально тебе отдыхается, когда твой сын лежит в больнице? А? Ему нужны лекарства, понимаешь ты, нет, пьяная свинья?!
— Не ори, дура, — отмахивается он от меня.
— У него пневмония! Ты хоть понимаешь, что он может умереть?!
— Пшла вон! — бьёт он ладонью о хлипкую столешницу, отчего на ней подскакивает рюмка с пустой тарелкой.