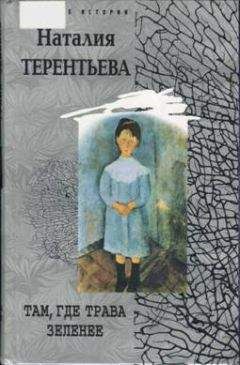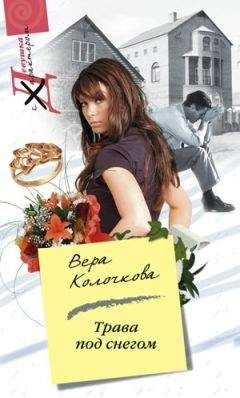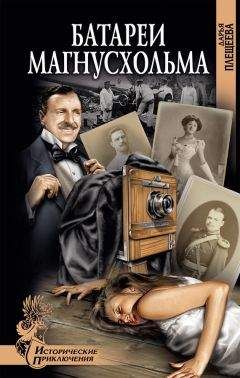Я маялась-маялась, почувствовала, что, если не запишу хотя бы половину взбесившихся Мыслей, — меня разорвет. Я поставила большого лохматого льва на край дивана, чтобы свет от настольной лампы не мешал Варьке спать, и включила компьютер.
Прежде я всегда работала ночью, но с тех пор, как появилась Варька, предпочитаю пораньше встать, хотя мне, сове, это безумно трудно. Тем не менее утром, после двухминутной зарядки, контрастного умывания и чашки обычного растворимого кофе, у меня вполне ясная голова.
Сейчас, глядя то на темное небо, то на белое поле монитора, я попробовала записать все, что меня мучило, потом попробовала начатую статью, но то ли от усталости, то ли от чрезвычайного расстройства связи между словами не устанавливались.
Тогда я прочитала несколько листочков из книжки Веры Павловой, наткнулась на стихотворение, которого раньше не замечала, — значит, еще не понимала его. «Всякий слышит лишь то, что понимает», как говорил кто-то из древних, кажется Плавт. Сейчас же я была потрясена стихотворением, читала его взад-вперед, пока не уснула. Проснувшись в пять утра, я почувствовала под щекой край книги, открыла глаза, наткнулась на уже знакомые строчки:
Смысл жизни младше жизни
лет на тридцать — тридцать пять.
Полагается полжизни
ничего не понимать.
А потом понять так много
за каких-нибудь полдня,
что понадобится Богу
вечность — выслушать меня.
Она еще уверена, что Бог будет ее слушать… Значит, не такая грешница, как я…
Я встала, умылась попеременно холодной и горячей водой и села за стол. Хорошее начало будет для письма, подумала я. И стала писать Саше письмо, от руки. Все-таки написанное на компьютере письмо — это не письмо. Так, суррогат.
«Саша, в какой момент тебе вдруг показалось, что мир — это огромный бордель, где ты можешь свободно выбирать женщин, приходить-уходить на глазах у всех?
Отчего это, Саша? Ты стал богатым? Ты — хозяин жизни? Или тебе страшно — приближается старость, и ты хочешь все успеть?
Или просто — ты заполняешь пустоту, которую никак и ничем не можешь заполнить?
Мне казалось, чего проще — заполни пустоту нашей любовью, нашей с Варей нежностью. Подумай — так ли много людей в мире, которым мы по-настоящему нужны?
Так ли много женщин, способных простить тебе то, что ты вытворяешь?
Так ли много у тебя детей, в конце концов, чтобы так легко отказываться от радости быть отцом? Что-то я не слышала историй о счастливых субботних папах и об их счастливых детях…
Саша, не в моих правилах учить.
Но спрошу тебя напоследок: а как же — душа, Саша?
Что там останется? Хлыстики и вибраторы? Или душа сейчас не главное? Ты не в это играешь?
Ну а Бог? Он, конечно, много всякой ерунды наговорил, правда? Зачем она нам, комсомольцам, эта трудная в практике и сомнительная истина…
«А! Все равно все помрем!» — скажешь ты. Ну, с этой точки зрения — да, конечно».
Чем дольше я писала, тем сильнее меня увлекало это занятие. Мне казалось, что я говорю с ним, вижу, как он кивает, то вдруг морщится, словно от боли, то отворачивается, и, когда поворачивается ко мне, — я замечаю у него в глазах слезы. Я сама несколько раз принималась оплакивать написанное и писала все дальше и дальше, все больше и больше…
«А вдруг будет хуже?» — думала я.
«Нет, хуже не бывает!» — отвечала тоже я и увлеченно строчила дальше.
«…Смотри, какая чудесная фраза:
«Свободен лишь тот, кто утратил все, ради чего стоит жить».
Это Ремарк, написавший много болтливых романов, — тоже дурак, да? Чего писал, зачем — ни котята, ни пэтэушницы, ни обладательницы разноцветных челок и фигурно выстриженных лобков ерунды этой все равно не читают. Но не теряют от этого своего магического обаяния и привлекательности, ведь так?
А вот Евангелие, Саша: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Скорей всего, ты ее познал, свою собственную истину. И ты бесконечно свободен — в выборе женщин. Никто и ничто тебя больше не сдерживает: в напитках, в количестве съеденной пищи, которую тебе надо переварить…
Ешь, пей, совокупляйся — живем однова, помрем в одиночку, хрен с ней, с душой, любовь — херня, есть мощная эрекция — вот вам и вся любовь, будем любить снова и снова… новых и новых… и никто нам не указ!
Но почему тогда так тошно по вечерам, правда?»
На этом месте я попробовала прочитать написанное, с трудом справилась с собственным почерком, два-три слова перечитывала и так и так, но все равно не поняла. Ясно было: надо включать компьютер. Саша глаза ломать точно не станет. Переписала с исправлениями уже сотворенное и понеслась дальше.
«…Помнишь, как спрашивают в церкви, когда венчают: «Клянетесь быть вместе, до конца дней своих в горе и радости?»
Нет радости, если только за ней, за радостью, на пятнадцать минут приезжаешь. А как ты хотел — ребенок будет бежать к тебе с сияющими глазами, если ты решил, что в твоей жизни и душе не хватает для него места?
…Наверно, не нам с тобой переписывать человеческие законы…
Ты мне говорил: люди по-разному живут… Да, по-разному. Кто-то сады разводит, кто-то органы украденных детей продает.
Кто-то живет с одной женщиной, кто-то позволяет себе минутные слабости, а кто-то позволяет себе вообще все. Ты выбрал, ты решил, это твоя жизнь.
Как все-таки жаль, что растерянному человеку в огромном мире приходится самому решать, как жить.
Снимай шапку в церкви — не снимай, ничего не помогает. Ты — один…
…Больше нет сил, Саша. Я не хочу инфарктов и инсультов.
Ненужная, рожденная против твоей воли девочка…
Ненужная, истерзанная тобой я…
Помнишь, я сказала тебе в машине: «Я тебя люблю». А ты молча повернулся и уехал к другой. Ты мне ответил, я услышала. Я больше не скажу этого, Саша.
…И еще. Ты никогда сам, без всяких книжек, не думал — зачем пришлось Богу приходить на землю две тысячи лет назад? Если ты, конечно, веришь, что он приходил… Зачем, кому, кем все это было сказано?
Чтобы не ели человечину, чтобы не убивали без оглядки, чтобы не совокуплялись без разбора, чтобы не натирали неразумные свои органы наслаждения об животных, не для этого органы были придуманы. Для Максимов и Варь эти органы нам даны, Саша. Ну и чтобы родителям веселее было их растить.
…Больно, плохо, страшно. И всех жалко.
Это письмо — вряд ли волеизъявление. Это скорее крик раненого, такое вот — «А-а-а-а» — на три с половиной страницы.
…И познай истину, и она сведет тебя с ума…»
Когда я закончила, на часах было без пятнадцати семь. Через двадцать минут будильник в телефоне заиграет полонез Огиньского. Или нет, какой день сегодня? Четверг? Значит, «Песню Сольвейг». Я прилегла к Варьке, обняла ее, тепленькую, любимую, и уснула.