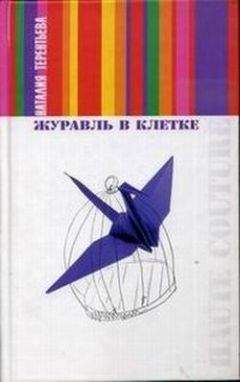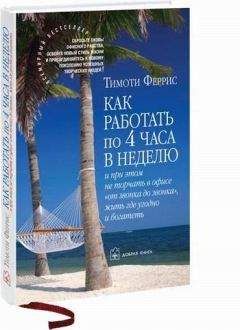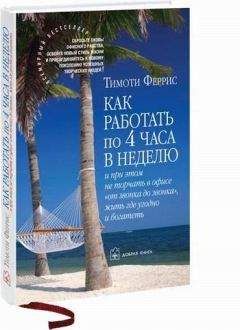– Ну что ты женщину, еще совсем молодую, преждевременно хоронишь?
– Да почему хороню? Что ты, Софьюшка!
Софья не дает мне оправдаться:
– То, что она больше не приходит, еще ни о чем не говорит. То, что дома никого нет – тем более. Может, ей работа эта ее просто надоела. Если бы что-то произошло, вот тогда бы все узнали… Уж телевизионщики-то что-нибудь раскопали бы обязательно…
Слабое место Софьиных доказательств. Поэтому его она проскакивает побыстрее. А мне-то хочется – как раз очень хочется! – все это слышать. И убедительные доказательства, и послабее. Любые доказательства того, что Филиппова, непредсказуемая, норовистая, ни на кого не похожая Филиппова, милая и чем-то бесконечно мне симпатичная, – жива. Это, видимо, отражается на моем лице, потому что Софья Леонидовна взвивается с молодым задором:
– Вот-вот! Точно! По лицу твоему трагическому вижу! С чего ты вообще решил, что с ней что-то случилось?
– Так пропала же она… – робко пытаюсь встрять я.
Софья не знает про папку. Она на самом деле ничего не знает. Но у нее есть эта чудная женская интуиция, доставшаяся их хитромудрому полу то ли от ночных птиц, то ли от каких-то зверьков, живущих в постоянном ощущении опасности и привыкших загодя распознавать приближение урагана и беспощадного хищника. Софья, например, уже много лет сообщает мне заранее, когда придут пожарники штрафовать наш ветхий особнячок за никуда не годную проводку и кто из авторов сподобится в скором времени на очередной опус.
Вот и сейчас она чувствует, что я что-то от нее скрываю, и пытается меня, что называется, расколоть. Но я не колюсь… (Удивительные все-таки обороты появились в современном языке!) Я молчу, потому что ничего, кроме страха и печали, не чувствую, когда думаю про Филиппову. И еще потому, что собираюсь напечатать то, что она принесла мне тем стылым октябрьским днем. И даже знаю, как проиллюстрировать эту ее книжку. Последнюю…
Нет, нет! Вовсе нет! Просто так кажется в иной миг… А нужна мне всего одна картинка, один рисунок. Куда-то уносящаяся Филиппова на миг застыла у моего окна. А за ее спиной тоже застыли в последнем вдохе поздней осени совершенно голые, беспомощные ветки чудом уцелевшей в самом центре Москвы ивы. Впрочем, возможно, это растение называется совсем иначе.
Да. Вот я, кажется, и нашел ответ на столько времени мучивший меня вопрос. Хотел написать несколько строк на тему осени вообще и своей в частности… А получил вместо этого неожиданный ответ.
Филиппова была в тот день другая. Совсем другой человек. Теперь я, пожалуй, могу поверить в эфиопа и шведа. Такая Филиппова могла уехать куда угодно. К примеру, могла уехать делать военный репортаж в самую горячую точку нашей безалаберной планеты, и тогда точно никто ничего про нее рассказывать не станет, пока она не вернется. А она вернется. Та, прежняя, могла и… А эта – обязательно вернется.
Ну а теперь-то уж вернется точно! Чтобы сказать мне:
– Что ж вы, Вениамин Савельич, слово-то не держите, а? Ведь сказано было – даю вам лично, не для печати! Все имена настоящие, история – тоже. Да еще сами видите – какая…
Впрочем, лукавлю. Про имена и все остальное – сам догадался, не говорила мне ничего Филиппова, залетевшая в редакцию морозным октябрьским утром в своем темно-синем полупальто с серебристо-черной меховой оторочкой.
И я часто вижу как наяву: вот она, с прямой спиной и даже чуть сведенными назад плечами, вышагивает по хрустящей корочке первого льда и, оборачиваясь, все смотрит наверх, на шестой этаж – не помашу ли я ей на прощание рукой.
А я в это время, кряхтя и беседуя сам с собой о странностях жизни, выбираюсь из своего неудобного кресла, в котором в последнее время все больше сидят по вечерам мальчишки, мои бойкие хамоватые помощники… Иду неторопливо к окну и что-то никак не могу до него добраться через заваленные письмами наивных читателей и контрольными экземплярами книжек стулья, а Филиппова уходит, и ее непривычно растрепанные волосы искрятся под холодным утренним солнцем…
И я действительно сейчас нарушаю слово. Впрочем… Я не знаю, зачем Филиппова наводила такую уж тень на плетень. Ничего особенного в этой истории нет, чтобы прятать ее от людских глаз и ушей. Ну а если есть… Может быть, тогда она вернется из своего кругосветного путешествия, чтобы накостылять ветерану пера по первое число. Я готов ответить на все ее упреки.
Филиппова ворвется ко мне в кабинет разъяренная, загорелая, в коротком оранжевом платье и развевающемся платке с рисунками Шагала. Она тряхнет длинной рукой со звенящими прозрачными браслетами и своим прелестным, чуть низковатым голосом сердито выкрикнет:
– Ты что же это, козел, слово нарушил?
Возможно, она выразится как-нибудь помягче. Ограничится, к примеру, склеротиком. Хотя кто ее знает! Может, припечатает и покруче.
– Сядьте, Светочка, – скажу я ей. – Сядьте. Вы очаровательны в своем персиковом наряде.
Филиппова скорей всего сядет на первый попавшийся стул, закинет ногу на ногу и настойчиво повторит:
– Почему нарушил слово?
– Потому что понял, зачем вы мне это принесли.
– И зачем же? – Филиппова гордо вздернет верхнюю губу, а в глазах ее запрыгают насмешливые огоньки.
– Чтобы было, за чем возвращаться. Правда, Светочка? Правда ведь?
И тогда гордая Филиппова заплачет. Шмыгая носом и размазывая краску на ресницах. А потом, глядя на меня сквозь прозрачный голубоватый камешек на своем браслете, покачает головой и тихо скажет:
– А вот и нет, Вениамин Савельич. Вовсе не для того. Просто я хотела, чтобы все знали… Точнее – чтобы никто не знал… Никто бы все равно не поверил, как было на самом деле и почему мы это сделали… И он, тоже, со временем стал бы задумываться… Понимаете?
– Не совсем, Светочка, но всячески вам сочувствую.
Филиппова обязательно тряхнет головой и недовольно покривится:
– Сочувствуете… Ерунда какая! И потом. Как это «не совсем» понимаете? Я имею в виду эту нашу историю…
– Светочка. – Я постараюсь, чтобы мой голос звучал как можно мягче. – Светочка… я не читал вашей книжки. Мне показалось – вы просили меня не читать ее, так ведь? И еще просили ее сохранить. Ведь так?
– А как же… – поперхнется Филиппова. – А как же вы ее напечатали?
– Да как-как.. Посмотрел в начало, посмотрел в конец, заглянул в серединку – все так замечательно, поучительно, тонко… поэтично… гм… кое-где… – пошучу я, с опаской думая, как бы взрывная Филиппова не разъярилась окончательно.
Филиппова чуть наклонит голову вбок и похлопает сильно выгоревшими ресницами, а я только тут замечу, что она коротко постригла волосы, и они у нее, оказывается, слегка вьются у самой шеи, обвитой чем-то диковинным. Может, это и есть настоящие коралловые бусы?