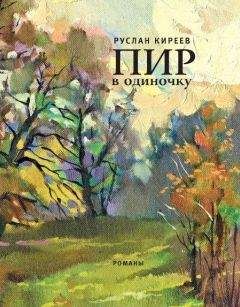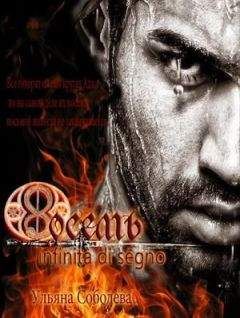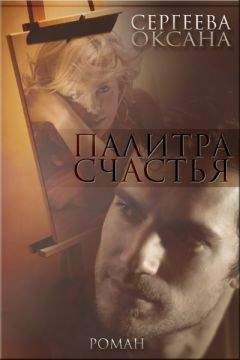Дверь, в которую врезаны три замка – на два из них он запирает меня, уезжая, – выходит не только в по-осеннему дремлющий сад, не только на соседний участок, где среди цветов и глиняных кошек обитает под розовой крышей глухонемая чета, не только на сосны, верхушки которых вздымаются над розовой кровлей и шумят на закате совсем иначе, нежели утром, протяжней и как бы выше, не только на пруд за лесом и не в другой, на том берегу, дальний лес с вросшими в землю бархатно-зелеными надгробиями, холодными даже в августовский зной, – единственное, что сохранилось от деревни Вениково, если не считать одичавших жасминовых кустов да двух старых яблонь, раскорячившихся, с бугристой корой, прародительниц краснобоких красавцев, что везет в целлофановых пакетах Посланник, – даже не в дальний лес, продолжаю я, выходит тюремная дверь, не на полуразрушенную птицеферму, в которую кладбищенский лес этот упирается и на которую я вышел однажды с ведерком прикрытых лопухами опят, не на перекрестки и светофоры безумного города, по ночам смывающего с неба бледные звезды, – а дальше, дальше, сквозь другие города, сквозь холмы и высокие горы, поверх оврагов и болот, на самый, может быть, океан, плоское, в водорослях и ракушках, побережье.
Океан, впрочем, тоже не предел. Да и где он, предел? Где и что? Смешная жалкая деревяшка с тремя замками? Страшно подумать, сколько их на земном шаре – дубовых, еловых, березовых, ореховых, из фанеры и спрессованных опилок, цельного куска или бамбуковых палочек, с цепочками и крючочками, с задвижками и засовами, с медным кольцом, как у глухонемой четы, или костяной, как у меня, ручкой… Сколько?! Больше, я думаю, чем людей, которые без устали мастерят их, дабы спрятаться от других, себе подобных.
Посланник не считает так. Посланник склонен думать, что двери, наоборот, соединяют индивидуумов. Любая жизнь, полагает он, есть разновидность неволи, только не надо пугаться, не надо принимать за надзор дисциплину и порядок. Стоит разглядеть их твердые контуры, и ты свободен, поскольку – о, золотая пружинка! – добровольно делаешь то, что делать все равно неизбежно.
Не все, к сожалению, понимают это, что чревато аварией, но ас мой начеку. Ас предугадывает, что вытворит в следующую секунду бежевый «Москвичок», что шалопай-мотоциклист в авиационном шлеме, при виде которого бывшего летчика овевает ностальгическим ветерком, а что – тяжелый, вонючий (пришлось стекло поднять) дизель.
Едва переступил порог – легкий, благоухающий свежестью и ароматом Грушевого Цвета, с пакетом вениковских яблок у груди и тайной тревогой, беспричинной, разумеется, ибо гаишник – это чепуха, нельзя быть столь суеверным (так, досадуя, урезонивал себя доктор диалектики), – едва вошел, как его, раннего гостя, усадили за стол.
Играла музыка. Дочь вежливо убавила звук, но лишь убавила, а могла б и вовсе выключить. Не пожелала… Словно рассеять внимание хотела. Словно развлечь старалась, отвлечь – дабы не заметил, остроглазый, чего-нибудь такого, что лучше не замечать. Я ухмыляюсь в своей крепости – экий мнительный палаша! – а он тем временем лакомится с внуком под музыкальный аккомпанемент взбитыми сливками. На усах, уже начавших седеть, трогательно белеют островки сладкой пены.
Такие же островки – целый архипелаг – тянутся под носом продолжателя рода, тоже, стало быть, усатенького. Точно собственное отражение видит Посланник – отражение в толстом, мутном зеркале времени, о чем и сообщает дочери. И сам ужасается:
– О господи! При чем тут зеркала? Откуда в нас, скажи на милость, это галантерейное стремление упаковывать все в оболочку слов? Прямо-таки болезнь какая-то! Эпидемия…
– Именно поэтому, папочка, я предпочитаю музыку.
Посланник поджимает испачканные сливками губы. Вообще-то он признает свое музыкальное невежество, признает охотно и весело (все свои недостатки он признает весело), но одно дело – он сам, а другое – она, лицо хоть и не постороннее…
Он не обижается. Напротив, незаметно переводит с облегчением дух: все, значит, в порядке у чада, коли отца поддевает. Родитель не остается в долгу.
– Не холодно?
Алая маечка, явно тесноватая ей, не то что прозрачна, нет, но как бы притворяется прозрачной.
– Я не такая же мерзлячка, как…
Отражение собственной иронии – еще одно отражение! – улавливает папаша в оборванной лукаво фразе. У нее и прежде проскальзывали и жесты его и ужимки, что всегда поражало сентиментального родителя. Дочь? Моя дочь? Так, кажется, и не переварил до конца, а тут внучок уже, существо и вовсе загадочное.
Другие, становясь дедами, наращивают солидность, а он, напротив, помолодел. Будто перенесся из полдня – если не из вечера, – в утро, причем утро хоть и осеннее, но светлое и ясное, подобно сегодняшнему, с бабочками и шмелями.
«Я не такая мерзлячка, как…» Тут она несправедлива к отцу. Разве не обливается по утрам холодной водой? Разве не шастает в двадцатиградусный мороз без кальсон и в шапке с поднятыми ушами?
Зато я зябну постоянно. Под двумя одеялами сплю да еще сую в ноги грелку, которая обжигает закоченелые пальцы, но не согревает их. Медленно и вязко течет кровь в твердеющих жилах, как медленно и вязко текла она у Сенеки, когда этот великий лицедей, выкушав напоследок теплого меда, перерезал себе вены… Я зябну, а вот мужчина, которого привела дочь, в закаленности, надо отдать ему должное, не уступает тестю. Одно время даже бегали на пару и на пару купались в грушецветном, за ближним лесом, пруду, вместе в баню ходили, где вдохновенно стегали друг дружку вениками, которые, разумеется, заготавливаю я.
Именно в бане узрел он по-настоящему новообретенного родственничка. Розовое молодое тело было не просто обнаженным, не просто нагим – лишь шерстяная шапочка прикрывала голову, – а каким-то вызывающе голым. Бедный диалектик! Он тоже был гол (даже без шапочки), но он был целомудрен. Поспешно отвернувшись, принялся хлестать себя, дабы не видеть проступающую сквозь горячий туман перламутровую от пота, в зеленых листиках плоть.
– Как зятек мой? Наведывается в баньку?
– Ты же не берешь его.
И опять ирония в голосе, но уже иная, не к нему относящаяся (он чувствует, если к нему), – к мужу. Наверное, к мужу…
– Надеюсь, у него все нормально?
Он дипломат у меня, мой консул и атташе, мой полномочный представитель, мой посланник, он дипломат, и, следовательно, дочь его была дочерью дипломата.
– У тебя, – произнесла, – испачкано.
– Где? – всполошился он и, выхватив платок, принялся вытирать усы. – Все?
– Все, – ответили ему с улыбкой.