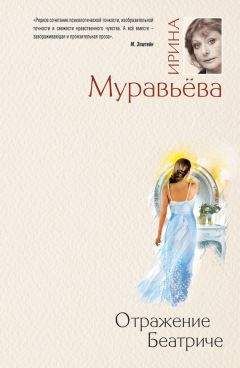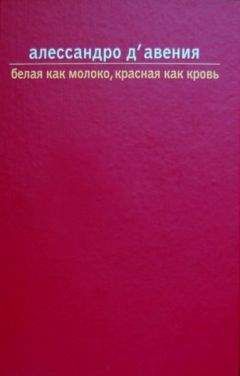– Моя бы воля, – сказал он, возвышаясь над сидевшей перед зеркалом Анной, еще не одетой, в халатике, с наброшенной на плечи белой простынкой, – я бы до такой красоты и пальцем не решился дотронуться! Зачем вам завивка? Ведь это не волосы, клад! – И он обеими большими ладонями приподнял ее распущенные волосы. – Ведь это же клад! Ну-с, приступим! Вы как больше любите: с челочкой? Без?
– Да мне все равно.
– А муж ваш как любит?
– Не знаю. – Она усмехнулась.
Парикмахер с недоумением посмотрел на нее.
– Ну, в это уж я ни за что не поверю! Да он ведь, наверное, глаз с вас не сводит?
Она промолчала. Парикмахер засуетился, достал из чемоданчика щетки, щипцы для завивки, и через час в зеркале отразилась совсем другая женщина, бледная от усталости и напряжения, но с очень высокой и сложной прической, которая, может быть, и совсем не шла к ней, делая ее старше, но при этом подчеркивала то, что было почти незаметным, когда Анна распускала волосы или, как школьница, закалывала косу низким узлом на затылке. Высоко поднятые и застывшие над ее лицом локоны открывали длинную и тонкую шею, плавно переходящую в покатые плечи, и во всем облике ее вдруг проступило то, что не было заметным прежде или, во всяком случае, не бросалось в глаза: немного пугающая своею печалью задумчивость, а может быть, даже и скорбь, непонятная в таком молодом существе.
– Красавица! – воскликнул парикмахер. – Наталия Пушкина!
Анна засмеялась.
– Да я не шучу! – перебил он обиженно. – Вы ведь не думаете, что, если человек зарабатывает на жизнь возней с чужими волосами, он уже ничего другого и не знает? Не может же быть, чтобы у вас было такое мещанское представление о вещах! В нашей стране можно заниматься чем угодно, а в свободное время отдаваться любому своему увлечению. Ведь обществу это ничуть не мешает. Я не исключение! С детства я бредил великим поэтом. Уж вы мне поверьте! Портреты не только его, всей семьи могу наизусть хоть сейчас перечислить!
После его ухода она достала из шкафа новое светло-серое платье с открытыми плечами и надела его, потом вынула из коробки вчера только принесенные мужем из закрытого магазина черные лаковые туфельки на высоких каблуках. Когда Краснопевцев открыл дверь квартиры, она стояла у окна в столовой спиною к нему, и струящийся, сильный, задумчивый снег за стеклом показался ее неотъемлемой частью.
– Готова? – спросил Краснопевцев.
Она обернулась.
– Волнуешься, что ли? – спросил Краснопевцев и быстро окинул ее, свою собственность, встревоженным взглядом: все тонкое тело ее в сером шелке, жемчужную нитку на шее и это родное лицо с его светом, который он так и не смог разгадать.
– Красивая ты у меня, Анька, – вздохнул он покорно, но скрипнул при этом зубами. – И как я тебя отхватил, сам не знаю!
– Это я тебя отхватила! – засмеялась она. – Ведь мне, не тебе, все на свете завидуют! Мама, кстати, сегодня наше фамильное колечко мне принесла – все, что от бабули осталось. Надеть?
И протянула ему руку с сияющей бриллиантовой розочкой на пальце.
– Не нужно, – сказал он. – Завидовать будут.
Но Анна вдруг вспыхнула:
– Пусть их завидуют! Кольцо целый век под кроватью лежало! Куда его было носить? И кому? Один раз надену, и снова ведь спрячут!
Краснопевцев махнул рукой. Она радостно надела розочку на тонкий средний палец рядом с обручальным кольцом, и вдруг он увидел, что подушечки пальцев у нее слегка припухшие и странного синеватого цвета.
– Что это у тебя с пальцами?
Анна быстро спрятала руки за спиной.
– Да так, ничего. Я заходила к нашей медсестре, потому что вчера вдруг так сердце забилось, а я не взяла с собой капли. Она тоже обратила внимание на мои руки. И видишь, какие у меня ногти? Сегодня еще ничего, уже почти нормальные, а вчера были голубые, как незабудки.
Она засмеялась.
– Что тебе сказала медсестра?
– Ну, что она могла сказать? Сидит там для оказания первой помощи. На случай, если кто кого барабаном по затылку стукнет. Сказала, что это может быть потому, что у меня неправильно работает сердце, и от этого недостаток кислорода. Вот и все. Даю тебе слово, что я пойду в поликлинику. Сразу после праздников пойду. Но это совсем не опасно, не бойся.
– Откуда ты знаешь? – Он весь потемнел.
– Сережа, не бойся, – повторила она, прижав в губам палец с бриллиантовой розочкой. – Иди одевайся, а то опоздаем.
Машина ждала у подъезда. Снег был уже не таким густым, но сыпал с загадочной ровной медлительностью, и в этой ровности его чувствовалось то бездушие, с которым приходит зима и сменяет пронзительным холодом робкую осень.
Чтобы не испортить прическу, Анна не надела шапку, а просто набросила на волосы тонкий вязаный шарф, и пока они шли от подъезда до машины, шарф заблестел от упавшего на него снега, и несколько нежных пушистых снежинок повисли на кончиках темных ресниц. До самого Кремля они молчали, и Краснопевцев опять подумал, что, если бы кто-нибудь из его давно умершей семьи увидел его, сидящего в этой дорогой и нагретой машине с красивой молодой женщиной в тонкой шубке и лаковых туфлях, с бриллиантовой розой на пальце, – они не поверили бы своим глазам и, что вероятней всего, испугались бы.
Банкет был накрыт в Георгиевском зале, и люстры слепили входящих. Людей собралось очень много: в руках у каждого была бумажка с номером стола и места, но во избежание суеты и толкотни бравые и молчаливые сотрудники в штатском, одетые во все белое, с золотыми аксельбантами, невозмутимые, словно ангелы в небе, но с лицами строгими и недоступными, распоряжались тем, как рассаживаются гости, отодвигали стулья, поправляли приборы. Анне показалось, что она попала в самую гущу театральной декорации и вместо людей вокруг нее двигаются и шепотом повторяют свои арии и реплики артисты, которые помнят одно: вся жизнь их зависит теперь от спектакля. Муж крепко держал ее за локоть, пока они шли к своему месту среди этой сдержанно гудящей, как улей, толпы, в которой не было ни одного знакомого ей человека и в которой каждый из этих незнакомых людей был словно немного ей чем-то враждебен. Анна не могла объяснить, почему ее словно бы загоревшееся под платьем, напрягшееся тело чувствует сейчас любую неловкость так остро, что даже случайное прикосновение к чужому плечу или чужой спине доставляет почти физическую боль, но сжалась внутри себя так, что даже походка ее изменилась: из плавной и легкой вдруг стала порывистой.
Их места оказались за столом под номером 15. По правую руку ее сидел муж, лицо которого вдруг приняло то же невозмутимое и самоуверенное выражение, что и лица почти всех находящихся в зале, а по левую – очень красивый, как показалось ей в первую минуту, в великолепном галстуке, с темной, глубокой ямочкой на щеке человек, глаз которого она не видела, но сразу же заметила, что он отличается от остальных спокойной какой-то развязностью.