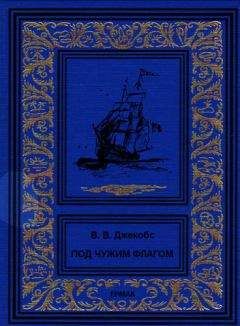— Что же вы думаете делать? — спросил Джойс, заинтересовавшись этим странным человеком.
— Уеду за границу. Здесь я, должно быть, уж последний раз. Послезавтра уезжаю на пароходе в Южную Африку.
Что это было? Внезапное наитие? Результат смутно роившихся в мозгу мыслей, отчаяний, попыток решения? Или сама судьба гнала его вон из Англии? Или внезапно он почувствовал братскую готовность поддержать и защитить это несчастное трагическое пугало в образе человека? Джойс и сам не знал. Может быть, это нахлынуло на него совсем внезапно. Но только он вскочил и протянул руку Ноксу.
— Клянусь всем святым, я еду с вами! — вскричал он странным голосом.
Нокс не сразу взял его руку и выразительно воззрился на него.
— Вы серьезно говорите?
— Дьявольски серьезно.
— Я ведь еду по самому дешевому тарифу.
— И я тоже.
— У меня в кармане всего несколько фунтов, которые мне удалось скопить. Я хочу попробовать счастье.
— И я тоже. Хуже, чем есть, не будет. Оставаться в Англии — значит, наверное умереть с голоду. Слушайте, скажите по чести: хотите иметь меня спутником-другом? Я такой же, как и вы, одинокий обломок крушения, плавающий по волнам моря житейского.
Нокс, в свою очередь, встал, стиснул руку Джойса, бледные глаза его заблестели.
— Я клянусь быть вашим другом и в мирное время и в годину опасности. И благодарю Господа за то, что он, милосердный, послал мне вас в час нужды.
— Ну, вот и отлично, — сказал Джойс. — А теперь выпьем по рюмочке и обсудим подробности.
И вот каким образом, в грязной бильярдной, неведомо для жалкой богемы, дремавшей на диване, и незаметно для играющих, которые без пиджаков бегали вокруг бильярда, был заключен страннейший союз дружбы между двумя отверженцами — дружбы, которой суждено было остаться несокрушимой и в нужде, и в болезни, и в отчаянии и оставить по себе неизгладимый след благороднейших чувств.
Но вначале слишком силен был у Джойса оттенок цинизма в отношении к этому человеку. Он громко и горько смеялся при мысли о том, кого он избрал себе в сердечные друзья. Только впоследствии, когда он узнал на опыте терпеливую собачью преданность к себе этого человека, он оценил его и стал стыдиться первоначального своего отношения к нему.
Переведя в Кейптаунский банк остатки своих сбережений, с письмом к Ивонне в кармане, он выехал из Соутгэмптона. Под мелким моросящим дождиком пасмурного ноябрьского дня, перегнувшись через борт парохода, он смотрел на страну своих блестящих надежд, без цели, без друзей, за исключением этого бесполезного существа, которое шагало позади него по палубе в своем нелепом головном уборе.
Он не строил планов.
Что он предпримет, высадившись в Кейптауне, он сам не знал.
Будущее для него было так же темно, как оно темно для всех людей, если б они только сознавали это.
В то время как Джойс, изнывая от тоски и горьких самоукоров, плыл по Каналу, в последний раз прощаясь с родиной, Ивонна в Фульминстере деятельно репетировала свою роль, готовясь к концерту, назначенному на следующий день. Она уже четыре дня гостила в Фульминстере у м-с Уинстэнлей и чувствовала себя немного не в своей тарелке среди безукоризненно приличного светского общества, в котором вождем и руководителем был каноник Чайзли.
И как раз в то время, как она силилась найти себя и усвоить себе манеры, соответствующие этому общественному раю, пришло письмо от Джойса с вестью о катастрофе и об его отъезде. И, улыбаясь канонику и его друзьям, она в то же время готова была плакать о Джойсе. Ее попытка разыграть добрую волшебницу не удалась; она была разочарована и огорчена. В душе ее были очень нежные чувства к Джойсу. Притом же, Африку она представляла себе ужасной страной, состоящей из пустынь, львов и свирепых, совершенно черных негров, которые ходят голыми. Если б ей удалось повидаться с Джойсом до его отъезда, она, быть может, убедила бы его не подвергать себя таким неудобствам и опасностям. И она с грустью думала об этом в те немногие свободные минуты, когда ей удавалось остаться одной.
Как мы уже говорили, Ивонна гостила у м-с Уинстэнлей. А м-с Уинстэнлей была первой дамой в Фульминстере, и дальней родственницей каноника Чайзли. Во всех отношениях это был образец безупречности. В делах брака она считалась оракулом: матери советовались с нею относительно щекотливых вопросов гражданского этикета. Всеми делами своего прихода ведала она же, и хотя у нее был свой собственный прекрасно устроенный дом, она вела хозяйство в ректорате и принимала на себя все обязанности хозяйки, когда кузен ее принимал гостей. Таким образом, во всех смыслах она была бесценным другом для каноника — его правой рукой, женщиной, которая умела делить с ним почет, придавая ему еще больше внушительности. Если б его попросили сочинить для нее эпитафию, он велел бы вырезать на камне: «Здесь покоится здравомыслящая женщина». А когда серьезный и солидный холостой мужчина сорока трех лет, в ответственной должности, судит так о женщине одних с ним лет и обо всем советуется с нею, результаты предвидеть нетрудно: кузина Эммелина была полной хозяйкой в ректорате. Правда, при этом она обнаруживала огромный такт, ибо, если у нее была особая добродетель, в которой она, так сказать, специализировалась, так это был такт, — но все же ее влияние было господствующим.
Когда каноник пришел к ней с просьбой пригласить к себе погостить Ивонну Латур, она изумленно подняла брови.
— Что это вы такое выдумали?
— Очень просто. Я не могу пригласить ее гостить у меня, и потому прошу вас пригласить ее.
— Неужто же вы хотите поместить у себя всех, кто будет участвовать в этом концерте?
— Конечно, нет. Подобная нелепость мне и в голову не приходила.
— В таком случае, зачем же делать исключение для мадам Латур? Ведь она даже не на первых ролях.
— Она очень хрупка и нуждается в комфорте. Если о ней не позаботиться, она, пожалуй, и вовсе не в состоянии будет петь. И потом, Эвелина, мне лично это было бы очень желательно. И я позволяю себе выразить вам это желание.
— Значит, вы с ней в большой дружбе?
— В большой дружбе.
Это сулило в будущем много неприятных осложнений. Ей вдруг кинулись в глаза слабые места в ее собственной позиции, которую она считала неприступной, и ей очень захотелось отказать. Она прикусила губы и посмотрела на свои отполированные ногти.
— Ну, полноте, ведь вы же здравомыслящая женщина, — помолчав, сказал каноник.
— Хорошо, я пошлю приглашение. Но примет ли она его?
— Об этом я уже позабочусь, — с живостью ответил он. — Я вам чрезвычайно обязан и признателен, кузина.