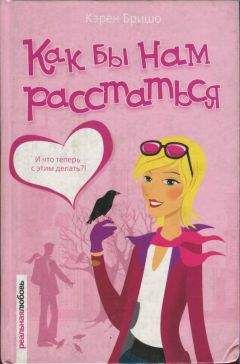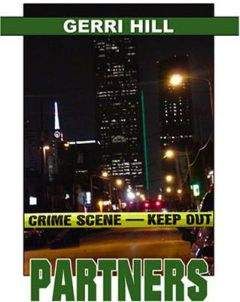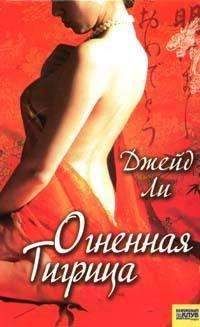Из-за чего я в двадцать восемь лет была девственницей?
Даже не знаю. Не из-за болезни. Не из-за опасности. Не потому, что ждала «своего единственного мужчину». И уж конечно, не по каким-нибудь политическим или религиозным соображениям (вроде испытания прелести воздержания).
Как-то так… получилось.
В основном из-за моего убеждения, что мозги у мужиков слишком загустели, чтобы справиться с моим не таким уж и острым (а скорее, просто тупым) сексуальным желанием.
Взять хотя бы Неряху Джефа. Ему достался только один пропитанный влагой поцелуй. После этого я умудрялась ежедневно обходить стороной его помост у входа в столовую, придумывая для этого тысячи разных способов, и каждый следующий был более изощренным, чем предыдущий. Один из них включал карабкание на улицу через окно уборной для девочек, пока Джона потихоньку доставал мою одежду из шкафчика…
Но это уже другая история.
Неряхе Джефу достался только один мокрый поцелуй.
А Бену удалось дотронуться до моей обнаженной груди.
А Скотту — запустить руку мне в трусы, после чего я его ударила.
А с Тимоти — да, с Тимоти, моим музейным начальником, — мы исступленно ласкали друг друга разгоряченными руками в тот вечер, когда стало известно, что моя филигранно выполненная просьба о гранте принесла нам наличные, которые были просто необходимы, чтобы музейный корабль остался на плаву. Мы оба тогда упивались успехом и шампанским, и нам обоим на следующий день было очень неприятно. И с тех пор ни он, ни я об этом не вспоминали.
Вот, собственно, и все, что касается работы руками. За исключением сегодняшней ночи, конечно.
Что же касается густоты мозгов у мужиков… Здесь можно сказать гораздо больше, а список голов с загустевшими мозгами будет не меньше «списка непослушных мальчиков», который ведет Санта Клаус. Если я еще вспомню все имена…
Но все это не отвечает на вопрос «почему?».
Не знаю почему.
Может быть, потому что не хочу знать.
Что-то ударяется об оконное стекло.
Я в полусне, но веки у меня резко поднимаются, а сердце начинает колотиться, как будто я смотрю фильм ужасов с его пугающе таинственными стуками и шорохами.
Тук.
«Это просто дети балуются», — бормочу я в подушку. На боку у меня собирается пот, образуя щекочущую лужицу, и тихо проливается на простыню.
Тук.
Майк выкатывается из постели. Я слышу, как он неумело возится со шторами и защелкой. Он раздвигает шторы, и в комнату волной вливается серый ночной свет.
Тук.
Он поднимает окно.
— Эй, — орет Майк, — пошел ты…
Он с треском захлопывает окно, и шторы возвращаются на исходные позиции, вновь погружая комнату во мрак. Кровать немного прогибается, когда он в нее залезает. Он гладит мне руку.
— Это какой-то мужик, — говорит он. — Он уже ушел.
Я верю в Бога. Мне просто не хочется с ним встречаться.
Как раз позади дорожного плаката с надписью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ХОУВ (НАСЕЛЕНИЕ 4 300 ЧЕЛОВЕК)», — в которой болельщики футбольной команды, соперничавшей с нашей, «Хоув» ежегодно исправляли, меняя «х» на «г», убирая «у» и прибавляя в конце еще две буквы, — стояла ветряная мельница — последнее, что осталось от фермы, бывшей там до того, как город так разросся в восточном направлении. Основу мельницы составляла крестообразная конструкция из дерева и металла. Часть древесины насквозь прогнила, поэтому вскарабкаться к кругу из крыльев и написать свое имя на видном месте было довольно опасным предприятием. В тот июнь, когда я увидела, как Джонз и Морган несутся в зеленом «вольво», я решила бросить вызов судьбе и написать там свое имя.
Я заставила Джону пойти со мной.
— Ты спятила, — сказал он, глядя вверх на двадцать пять футов старой древесины и ржавого металла, — так высоко ты не заберешься.
— Посмотрим.
В карман шорт я втиснула баллончик с аэрозольной краской, который купила специально для этого случая. Я уже вскарабкалась на две перекладины, когда Джонз схватил меня за лодыжку.
— Чита…
— Все в порядке, — сказала я, глядя на него сверху вниз и усмехаясь.
На самом-то деле я очень сомневалась, что все будет в порядке. Но по какой-то непонятной причине с тех самых пор, как он протянул мне сигарету, у меня появилось чувство, что, «если что», обо мне никто и не вспомнит. Я была тенью — тенью, о которой никто не вспоминает, когда исчезает то, что ее отбрасывало. И как раз накануне вечером мне в голову пришла эта гениальная идея — написать на ветряке свое имя. Не на одной из лопастей, а на хвосте.
Для того чтобы написать свое имя на лопасти, совсем не надо было перелезать на нее с остова мельницы. Нужно было просто вытянуть руку и, распыляя краску из баллончика, расписаться на ближайшей лопасти — на той, которую ветер поставил в самое нижнее положение, а потом спуститься вниз. Написать имя на хвосте ветряка было куда сложнее. Чтобы дотянуться до него, нужно было как-то вскарабкаться на прогнившую верхнюю площадку и подтянуть к себе этот хвост.
Джона думал, что я буду писать на лопасти. Знай он, что я задумала, он привязал бы меня к дереву и не выпускал, пока эта дурь не вышла бы из меня.
Я взглянула назад, вниз. Джонз смотрел на меня, вверх. На его лице сменяли друг друга различные оттенки зеленого цвета. Каждый раз, когда я забиралась на новую крестовину, зелень на его лице приобретала все более и более насыщенный оттенок.
— Ты бы лучше закрыл глаза или не смотрел, — сказала ему я.
Джонз покачал головой:
— Ты упадешь.
Я потянулась к крестовине над головой.
— Тогда ты услышишь, как мое тело ударится о землю, — ответила я, — и тебе не придется…
Мои слова были прерваны какими-то звуками — это в кустах рвало Джону.
— Я же говорила, что тебе не надо смотреть, — сказала я, когда звуки затихли.
Ответа не последовало.
Я снова посмотрела вниз. Странно, но я не чувствовала обычной на высоте тошноты. Необычным был и вид Джоны, смотревшего на меня снизу вверх. Так он казался еще дальше… Я постаралась не показать, насколько сильно у меня кружится голова, и усмехнулась.
— Нет, правда, — сказала я, — со мной все в порядке.
— Нет, правда. Она из тех, кто может просто вышвырнуть нас пинком под зад.
Я вздрагиваю и просыпаюсь, не понимая, где нахожусь, все еще раскачиваясь на ветряке.
Это Джина и Дилен.
— Ладно тебе, Уичита, — говорит Джина, но голос ее идет с другой стороны кровати.
— Что ты меня трясешь? — бормочет Майк.
Джина взвизгивает.
И продолжает визжать.
— Господи Иисусе, — говорит Майк, натягивая одеяло на уши. — Это что, моя бывшая?