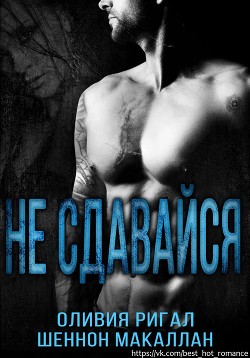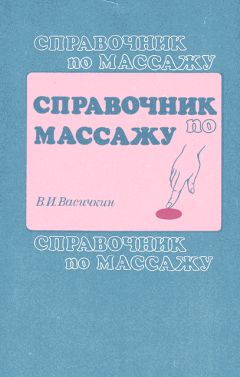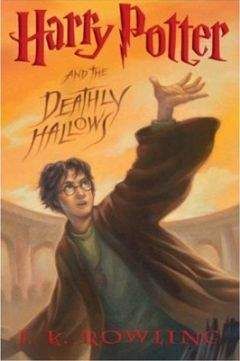Ты хочешь не жену любить, а рабыню. Племенная кобыла. Но опять же, что я знаю о любви? Я думала, Шон любит меня, но он все равно ушел, много лет назад.
Я немедленно сожалею о неблагодарной мысли — Шон, возможно, ушел ранее, но теперь он вернулся. Шон вернулся! Он вернулся за мной!
Натану с трудом удается следовать за нами, и он тут же снова засыпает за столом, даже когда его отец проповедует. Находясь между Лией и Иеремией, я поедаю остатки общего ужина: кусочки курицы, которые никто не брал, высохшие или костлявые, морковь и лук, слишком деформированные, чтобы продавать их туристам.
Отец Эммануил разглагольствует долго и громко. Он выкрикивает зажигательную проповедь, полную огня и серы, наполненную грехом и проклятием. Америка падет, провозглашает он, потому что она спала с Вавилонской Блудницей. Он продолжает и продолжает говорить о мерзости запустения, о Гоге и Магоге, пророчествующих реки крови, покрывающие землю, и собравшаяся община поглощает каждое слово с таким же удовольствием, как ест свой ужин.
Если вчера за завтраком они одобрительно кивали на нелепую логику сына, то безумие отца заставляет их зажечь факелы и двинуться на Манхэттен, Вашингтон и Голливуд с очищающим огнем Господа.
Только в конце, когда отец Эммануил приказывает нам склонить головы в покаянии и молиться о прощении и милости Господа, я снова слышу свои мысли.
Я закрываю глаза и покорно опускаю голову, прокручивая в голове разговор с Шоном. На моих губах расцветает улыбка, и я сдерживаю ее. Почти невозможно сохранить подходящую маску для обстоятельств, когда все, что я хочу сделать, — это кричать с самых высоких горных вершин, кричать всему миру, что я самая счастливая девушка на земле. Шон вернулся за мной!
Восемь долгих лет я ждала и молилась. Я зашла так далеко за пределы любой надежды, а теперь? Мои молитвы были услышаны. Шон вернулся! Он вернулся домой, вернулся в мою жизнь. Назад ко мне! Все, что я хочу сделать, — это кричать мою благодарность небесам, восхваляя Бога, в которого почти потеряла всякую веру. Я хочу танцевать и показать миру свою радость. Но я не смею.
Мое «аминь» в конце последней молитвы сатаны несет в себе лишь слабую тень блаженства и экстатического ликования, которые чувствую внутри, но все же я показываю слишком много счастья. Глубоко посаженные глаза Лии пристально смотрят на меня, но даже ее острый взгляд, разрезающий слои тайны, исследующий, чтобы найти скрытую правду греха, не может ничего сделать, чтобы вернуть меня на землю. И вообще, что ты можешь сказать, мерзкая сука? Что я слишком пылка в своем поклонении? Что слишком увлечена восхвалением Господа и Его Плана? Его совершенно великолепного плана, который принес мне мое освобождение?
Когда гимны и молитвы заканчиваются, мне удается оттащить Натана от стола. Он едва держится на ногах, засыпая почти на каждом третьем шаге, но в конце концов мы добираемся до его матери в лазарете.
Сестра Ребекка читает Библию за письменным столом, рядом на подносе остатки ужина. Она едва притронулась к еде. Сатане нравятся худые женщины, но женщина уже настолько худая, что выглядит болезненно. Она всего в нескольких фунтах от моей изможденной матери.
Когда мы входим, мать Натана отрывается от книги и на какую-то долю секунды улыбается. Не мне, а своему сыну, и даже в своем изнуренном тумане маленький мальчик, кажется, улавливает этот трепещущий знак любви и приближается к ней. То, как он смотрит на мать, кричит, что он хочет обнять ее на ночь. Как она может этого не видеть? Или ей просто все равно? Мимолетное прикосновение ее губ к его лбу — это все, что он получает, когда она отправляет его в постель. Нет ни распростертых объятий, ни проявления привязанности. Сколько еще он будет искать любви и нежности в мире, прежде чем полностью примет суровый аскетизм своего отца? Или уже слишком поздно? Я должна верить, что его еще можно спасти.
Ребекку, Лию и мою мать объединяет одно: они не чувствительные матери. Я знаю, что они должны любить своих детей, но они этого не показывают. Что-то в них сломано или отсутствует? Это что-то в нас? Или просто это место, эта церковь и наш гнусный пророк?
В отличие от Иеремии и Натана, мне повезло, что у меня имелся отец, который компенсировал это, пока был жив. Память о тех моментах до сих пор согревает мое сердце, и я стараюсь поделиться, как могу, этим теплом с маленькими. С Дженни и остальными. Даже с Натаном, когда он позволяет.
Когда дверь в их комнату закрывается за сыном, Ребекка снова смотрит на меня.
— Я не буду лгать тебе, — признается она, качая головой, когда встает и стряхивает воображаемые крошки с платья. Ребекка жестом приглашает меня следовать за ней. — Твоя мать нездорова, сестра Кортни, — утверждает она мне на ходу.
Моя мать, кажется, усохла, лежа на маленькой раскладушке. Звук наших голосов выводит ее из оцепенения, и она медленно поворачивается в нашу сторону, но когда узнает нас, в ее глазах появляется только разочарование. Конечно. Она хотела, чтобы он посетил ее.
Я разрываюсь между гневом и грустью. Сколько раз ей придется дать пинка, прежде чем она сможет сломать это желание ползти обратно к нему? Даже у собаки больше здравого смысла. Даже собака в конце концов убежит или научится сопротивляться. Почему ты не можешь сделать то же самое, мама?
На прикроватной тумбочке стоит поднос с ужином. Он такой же полный, как и тот, который сестра Ребекка оставила почти нетронутым.
— Она ведь ничего не ела? — Мне не нужно смотреть на Ребекку, чтобы узнать ответ.
Я помогаю своей протестующей матери сесть. Она сопротивляется, пытаясь повернуться ко мне спиной, но уступает по настоянию Ребекки.
— Позови, если понадоблюсь, — говорит она, закрывая за собой дверь.
Я пододвигаю табурет и уговариваю маму поесть. Ложка за ложкой, суп исчезает, пока не остается половина содержимого в миске.
— Ох, мам, — вздыхаю я. — Где ты? — Когда заговариваю с ней, она поворачивает ко мне свое разбитое лицо, но ее глаза пусты, не сфокусированы, и я чувствую себя прозрачной. Она вообще знает, кто я?
Когда она слишком устает, чтобы есть, я беру ее за руки и помогаю встать. Она молча бредет в ванную и обратно, и я укладываю ее в постель.
— Почему мы здесь, мама? — Я знаю, что у нее нет для меня ответов, но мне все равно нужно спросить. — Зачем ты привела меня сюда? Почему ты не уйдешь отсюда? — Я отвожу от нее взгляд, стою, уставившись себе под ноги, и задаю последний вопрос горьким голосом: — Почему ты не даешь мне уйти?
— Потому что Он приказал, — шепот матери останавливает меня, и когда она протягивает ко мне руку, ее хватка на моем запястье сильна, подобно стальным кандалам. — Он пожелал, чтобы мы были здесь, и вот мы здесь.
— Это то, что ты хочешь? — Я разрываюсь между недоверием и злостью из-за ее ответа. — Для себя? Для меня?
— Не важно, чего я хочу, Кортни. Не имеет значения, чего мы хотим. Важно только то, что Он приказывает, — тихо шепчет мама. — Когда Он приказывает, это должно быть выполнено. Мы должны очистить себя от греха, от порока. Мы должны быть достойны Его.
— Но почему, мама? — Оторвав ее руку от своего запястья, ложу ее руку себе на бедро. Знаю, что она чувствует ушибы через поношенную юбку, и во внезапной вспышке ярости мне хочется, чтобы она почувствовала это непосредственно. — Почему ты не можешь просто позволить мне уйти? Ты сама сбежала, мама. Когда-то давно ты сбежала из такого места.
— Если овцы убегут, — утверждает она, — пастырь не сможет их защитить. — В ее голосе, в глазах есть намек на печаль. Это действительно так, или я только воображаю это? Я вижу это, потому что хочу, чтобы это было? — Стадо должно расти, — заканчивает она, повторяя то, что отец Эммануил сказал мне в своем кабинете.
— В этом все дело? — спрашиваю я, чувствуя тошнотворный ужас в животе. — Ты с ним заодно? Ты хочешь, чтобы я вышла замуж за Иеремию? — Я отшатываюсь от ее прикосновения. — Ты знаешь, что это будет значить для меня?