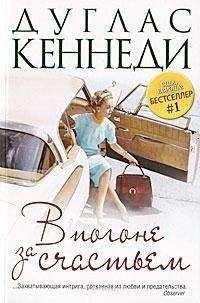Да, — тихо произнесла она. — Непременно.
Она тронула меня за локоть, увлекая в гостиную.
Садись. Кофе? Чай? Или чтб-нибудь покрепче?
Покрепче, — ответила я.
Красное вино? Бурбон? Ликер «Харви Бристол»? Боюсь, что больше мне нечего предложить.
Бурбон.
Со льдом? С водой?
Чистый.
Она позволила себе легкую улыбку.
Вся в отца, — сказала она.
Она жестом указала мне на громоздкое кресло. Оно было обито рыжевато-коричневой тканью. Так же, как и большой диван. Между ними стоял современный шведский журнальный столик, на котором аккуратными стопками были разложены альбомы по искусству и серьезная периодика («Нью-Иоркер», «Харперз», «Атлантик Мансли», «Нью-Йорк ревью оф букс»). Гостиная была маленькая, но в ней царил идеальный порядок. Выскобленный деревянный пол, белые стены, книжные полки, солидная коллекция дисков с классической музыкой, большое окно, выходящее на южную сторону, с видом на патио в заднем дворе. На выходе из комнаты имелся альков, где был оборудован домашний мини-офис — изящный письменный стол, на нем компьютер и факс, пачка бумаги. Напротив алькова была спальня с огромной кроватью (выцветшая деревянная спинка, стеганое покрывало в старомодном американском стиле), строгий деревянный комод. Обстановка спальни, как и всей квартиры, говорила о хорошем вкусе и элегантности хозяйки. Было совершенно очевидно, что Сара Смайт отказывалась уступать старости и уж точно не хотела прожить остаток жизни в ветхости и убожестве. Дом был отражением ее внутреннего благородства и достоинства.
Сара вышла из кухни с подносом в руках. На подносе были бутылка бурбона «Хайрам Уокер», бутылка ликера «Бристол», бокал для шерри, стакан под виски. Она поставила все это на журнальный столик, наполнила бокалы.
«Хайрам Уокер» был любимым бурбоном твоего отца, — сказала она. — Лично я терпеть его не могла. Виски я пила лет до семидесяти, а потом организм распорядился по-своему. Теперь мне остается довольствоваться скучными женскими напитками вроде шерри. Твое здоровье.
Она подняла свой бокал. Я не ответила на ее тост. Молча и залпом опрокинула виски. Оно обожгло горло, но сняло тревогу, которая все никак меня не отпускала. И опять легкая улыбка пробежала по губам Сары Смайт.
Твой отец тоже так пил — когда нервничал.
Яблоко от яблони… — сказала я, показывая на бутылку.
Пожалуйста, наливай еще, — сказала она. Я налила себе виски, но на этот раз лишь пригубила. Сара Смайт устроилась на диване, положила свою ладонь на мою руку.
Я хочу попросить прощения за те крайние меры, к которым мне пришлось прибегнуть, чтобы вытащить тебя ко мне. Я знаю, ты, должно быть, считаешь меня надоедливой старухой, но…
Я резко отдернула руку:
Я только хочу выяснить одну вещь, мисс Смайт…
Сара, пожалуйста.
Нет. Никаких фамильярностей. Мы не подруги. Мы даже не знакомые…
Кейт, я знаю тебя всю жизнь.
Откуда? Откуда вы меня знаете? И какого черта вы начали беспокоить меня после смерти моей матери?
Я швырнула на стол фотоальбом, раскрыла его на последней странице.
Еще мне хотелось бы знать, откуда у вас это? — Я ткнула в вырезку из школьной газеты с фотографией Этана.
У меня оформлена подписка на эту газету.
Что?
Точно так же я подписывалась на газету колледжа Смита, когда ты там училась.
Вы сумасшедшая…
Позволь, я объясню…
С чего вдруг вы нами так интересуетесь? Судя по фотоальбому, который был состряпан явно не вчера, вы следили за нами все эти годы. И откуда у вас старые фотографии моего отца?
Она в упор посмотрела на меня. И сказала:
Твой отец был любовью всей моей жизни.
Что первое всплывает в памяти, когда я думаю о нем? Взгляд. Беглый взгляд через плечо, которым он окинул битком набитую, в клубах дыма, комнату. Он стоял у стены: в руке наполненный стакан, в зубах сигарета. Уже потом он признался мне, что чувствовал себя не в своей тарелке и выискивал в толпе того парня, что притащил его в эту компанию. Ему на глаза случайно попалась я. Наши взгляды встретились. Всего лишь на мгновение. Или на два. Он смотрел на меня. Я смотрела на него. Он улыбнулся. Я улыбнулась в ответ. Он отвернулся, продолжая искать своего приятеля. И больше ничего не было. Лишь один короткий взгляд.
Вот уже пятьдесят пять лет минуло, но я могу воспроизвести это мгновение в мельчайших подробностях. Я до сих пор вижу его глаза — светло-голубые, ясные, слегка усталые. Его рыжеватые волосы, коротко подстриженные машинкой. Армейскую форму цвета хаки, которая безупречно сидела на его долговязой фигуре. И он выглядел таким молодым (собственно, ничего удивительного, ведь в ту пору ему было чуть за двадцать). Таким невинным. Таким спокойно-задумчивым. Таким красивым. И, черт возьми, таким ирландцем.
Взгляд — это ведь такая эфемерность, не правда ли? Всего лишь мимика. Ничего не значащая. И вот что мне до сих пор не дает покоя: как это возможно, чтобы такая мимолетность перевернула твою жизнь? Каждый день мы встречаемся глазами со множеством людей — в метро или автобусе, в супермаркете, на улице. Вот кто-то идет тебе навстречу, ваши взгляды на миг соприкасаются, повинуясь какому-то импульсу, но уже в следующее мгновение вы проходите мимо. Все, конец истории. Так почему… почему?., именно тот случайный взгляд должен был стать роковым? Нет ответа. Даже приблизительного. Кроме того, что он действительно перевернул нашу жизнь. Изменил все. Безвозвратно. Хотя, конечно, никто из нас тогда об этом не догадывался.
Потому что, в конце концов, это был всего лишь взгляд. Мы были на вечеринке. В канун Дня благодарения. Был 1945 год, В апреле умер Рузвельт. В мае Верховное командование Германии объявило о капитуляции. В августе Трумэн сбросил бомбу на Хиросиму. Спустя восемь дней капитулировала Япония. Какой насыщенный событиями год. Для тех, кто был в ту пору молодым, да к тому же американцем — и не потерял в той войне любимых, — наступила настоящая эйфория от побед.
В числе таких счастливчиков были и мы — человек двадцать, собравшиеся в тесной квартирке на Салливан-стрит, чтобы отпраздновать первый мирный День благодарения. Было много выпивки, много танцев. Средний возраст нашей компании составлял лет двадцать восемь… так что я в свои двадцать три года была среди них ребенком (хотя парень в армейской форме выглядел еще моложе), А высокопарные беседы, которые мы вели в тот вечер, были посвящены, ни много ни мало, Будущему Безграничных Возможностей. Потому что победа в войне означала еще и то, что мы наконец одолели экономического врага, имя которому было Великая депрессия. Все ждали дивидендов от наступившего Мира. Впереди были лучшие времена. И мы считали, что имеем полное право распорядиться их благами. В конце концов, мы были американцы. И это был наш век.