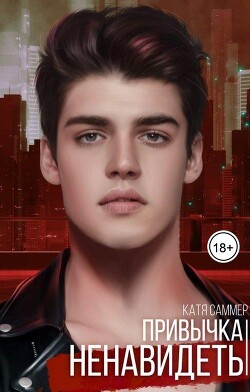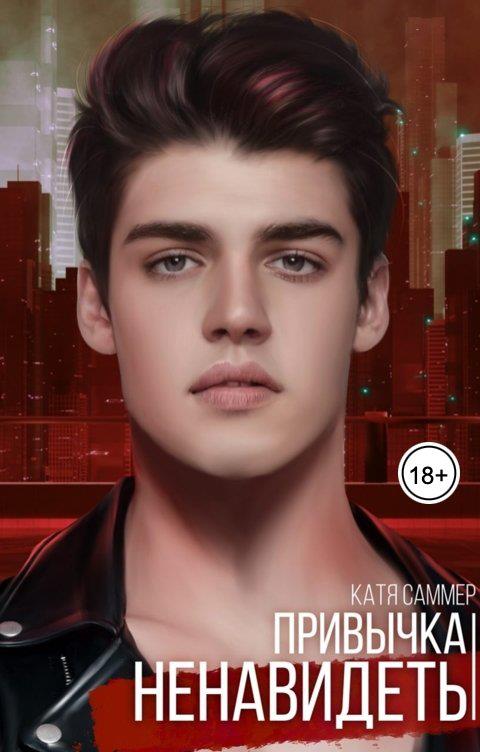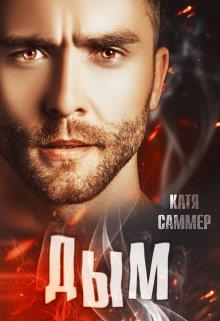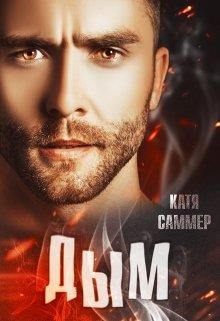— Он будто сливает меня. Я боюсь его потерять.
— Так а ты, блять, не бойся!
— Не ори на меня! — хрипит Софа, которую вроде бы еще вчера я видела у дома Бессонова, а теперь она говорит о нем в пустой аудитории с Остроумовым.
Ничего не понимаю.
— Прости. — Я никогда не слышала, чтобы Остроумов перед кем-то извинялся. Не думала, что он вообще на это способен. — Прости, но я не могу больше смотреть, как он вытирает об тебя ноги. Разуй глаза, он слюной давится на Ланскую.
— Даже не упоминай о ней при мне.
Ч-что?
— Если ты будешь продолжать делать вид, что ничего не происходит, она все равно никуда не денется.
— Ян не сможет. Не с ней. Не после всего.
— Ты в этом уверена?
Тихо секунду, две, три. А затем до меня доносятся звуки…
— Хватит. Отпусти.
— Ты можешь сколько угодно обманывать себя, — Остроумов плюется каждым словом, — но я был первым. И останусь последним.
Дальше я не слушаю, в ужасе выскакиваю из подсобки и со звонком мчу на экзамен, прокручивая в голове то, чему стала свидетелем. Я не знаю, как к этому относиться. Особенно после того, что пережила сама. Не знаю, что все это может значить и почему вообще должно меня волновать. Вдруг они развлекаются так? Такие, как этот Савва, живут в другом мире, где в наследство достаются не долги и кредиты, а целые авиакомпании и заводы. Уму непостижимо, что у них в голове. И чтобы с треском не провалить аудирование, я хотя бы на короткое время предпочитаю обо всем забыть. По итогу я сдаю на твердую четверку, возвращаюсь домой очень даже довольная и отмечаю на календаре два последних экзамена, после которых буду свободна. А когда застаю папу в зале, некоторое время подглядываю за ним, потому что не могу поверить глазам — он сидит за компьютером и увлеченно печатает что-то. Белый экран усыпан черными буквами, и мне так непривычно наблюдать подобную картину, что я аккуратно подкрадываюсь сзади и заглядываю ему через плечо.
— Может, тебе кофе сделать? — осторожно интересуюсь я, чтобы не спугнуть его музу, а он мотает головой.
— Нет, малыш, спасибо.
Мое сердце пропускает удар, чтобы следом забиться быстрее, потому что папа… он не называл меня малышом с того самого дня. А еще он не писал трезвым, да никаким не писал! И не смотрел на меня этим теплым взглядом.
Неужели все может наладиться? Неужели мы снова сумеем жить тихо, мирно и счастливо? На радостях и без температуры я даже решаю приготовить черничный пирог. Мой желудок истосковался по нему — раньше я ела его каждую неделю, да и черника в морозилке лежит без дела, так почему нет?
Шаг за шагом, правда, не без труда, я вспоминаю рецепт, которым со мной поделилась Наташа. Складываю ингредиенты, делаю начинку — ничего сложного нет, это одно из немногих блюд, что я могу осилить, не спалив кухню. Не спеша вымешиваю миксером тесто, переношу его в форму на пергамент и сверху выкладываю чернику, а затем аккуратно вливаю сметанную заливку. Уже через час на столе остывает ароматный пирог. А я, наплевав на то, что могу обжечься, отрезаю кусочек и пробую, чтобы рассмеяться в голос и после практически зареветь. Потому что это очень вкусно и почти так же, как делала Наташа.
Почти. Потому что все равно не так. Чего-то не хватает, и я не могу понять чего.
Усталый всхлип срывается с моих губ вместе со стуком над головой. Я резко смотрю наверх, как будто я Кларк Кент и вижу сквозь стены. Но я не он. Разглядеть ничего не выходит, а стук повторяется. Раз и два, входит в ритм. Стучат где-то на крыше. Бессонов вызвал рабочих? Потому что если да, то мне придется отдать из заначки последние деньги, но, с другой стороны, по прогнозу на следующей неделе обещают чуть ли не ураган. Лучше я возьму несколько смен Алины в караоке, чем опять проснусь в собственной кровати под дождем.
Промокну́в уголки глаз бумажным полотенцем, я выпрямляю спину, режу пирог и выкладываю несколько красивых аппетитных кусков на тарелку. После забираюсь на чердак и выше, чтобы сделать хоть что-то — например, угостить мастеров. Может быть, тогда Бессонову не понадобятся в срочном порядке мои деньги? Если он подождет, то я конечно же…
Черт! Да сам дьявол!
Я едва не оступаюсь и не валюсь вниз, когда выглядываю наружу. Потому что нахожу на крыше Яна. Одного. Как всегда, практически голого — в одних шортах — и под палящим солнцем. Он медленно вытирает футболкой мокрый лоб и шею, пьет воду так, что та стекает плотными струями по его шее, груди… Черт, а мой взгляд скользит от точки до точки между его татуировками, затем по косым мышцам и темной дорожке волос. И снова кадры дождя и душа перемешиваются в мыслях между собой. Снова горят щеки, и тарелка едва не выскальзывает из рук.
— Долго пялиться будешь?
Его ужасный презрительный тон с едким сарказмом — это самый лучший антидот. Возбуждение, нахлынувшее горячей волной, как рукой снимает.
— На. — Я, осторожно балансируя на покатой крыше, наклоняюсь и ставлю между нами тарелку, лишь бы не передавать ему в руки и, не дай боже, коснуться его. А пирог тем временем, накренившись в сторону, так и норовит убежать вниз. — Не подавись.
Вот и поговорили.
И только я собираюсь скрестить руки на груди и выпятить нижнюю губу, изображая обиду и ледяное презрение, как Бессонов ломает весь мой план, когда просто хватает грязными лапами кусок пирога и по-варварски запихивает его себе в рот. Ну точно неандерталец.
Если он и хотел уколоть меня, сказав, что я ужасно готовлю или что-то в этом духе (а я думаю он бы в этом себе не отказал), то у него не выходит. Ян начинает жевать, жмурится и издает какое-то тихое гортанное «м-м», которое долетает до меня вибрациями и щекочет ребра. Я с трудом сдерживаю улыбку и вновь подступившие к горлу слезы, потому что понимаю его — он тоже помнит.
— Наташа, конечно, готовит их лучше, — негромко и слегка сиплым, будто простуженным голосом заговариваю я, — не могу понять, чего не хватает, вроде бы я…
— Ванили, — он открывает глаза и произносит это очень серьезно, — она всегда добавляла ваниль.
После его слов что-то щелкает в голове, и меня отпускает. Как будто он выбрасывает белый флаг и больше не хочет стереть меня с лица земли, хотя, возможно, это не так. И все же я аккуратно сажусь в паре метров от него.
— Как она? — тихо, с опаской спрашиваю я. Мы оба понимаем, о ком это. Выходит робким шепотом, но на большее меня не хватает.
— А ты будто не в курсе. — Ян закатывает глаза, встает с колен и тоже опускается рядом, чтобы сжать переносицу, а затем, пройдясь пятерней назад и вперед, растрепать волосы.
Мамочки, и почему такой простой жест кажется мне настолько горячим? Мурашки бегут по рукам и ногам. Я облизываю пересохшие губы и почти с осязаемой болью отрываю взгляд от «чувств» и «разума» у Бессонова под лопатками, если я верно перевожу и понимаю посыл. Сколько этих тату еще разбросано по его телу? Задумавшись, я не осознаю, что жую губы, пока он не ловит меня за этим делом.
— Ты просил не ходить в больницу, я и не ходила, — спрятав смущение за раздражением, отвечаю я. — Точнее, ты обещал меня убить, но это уже мелочи.
Ян не смеется, хотя я полагала, что будет.
— А цветы откуда взялись тогда? — Ох, все он, блин, заметил, его прямо-таки не проведешь.
— Сиделку попросила передать.
Бессонов смотрит куда-то вдаль, щеки разрезают обозначавшиеся скулы.
— Чем ты их всех очаровываешь, блять?
Не пойму, он бесится или правда недоумевает.
— Если меня не злить, я умею быть милой.
Ну а теперь он откровенно ржет, и это сводит меня с ума. Общение с ним напоминает прогулку по минному полю — никогда не знаешь, где рванет.
Зачем я вообще суюсь тогда? Хороший вопрос.
— Как ты? — произношу я осторожно, чтобы сразу не взлететь на воздух (или не быть сброшенной с крыши).
На самом деле, раньше я не задумывалась о том, что он, по сути, совсем один. Друзья друзьями, Софа Софой, но я давным-давно не видела его папу — слышала, тот живет в другой стране с новой семьей, но подробностей не знаю. Где его бабушки-дедушки я тоже не в курсе, но у меня давно сложилось впечатление, что у них с Наташей никого больше нет. А теперь и она…