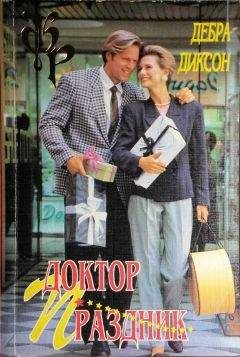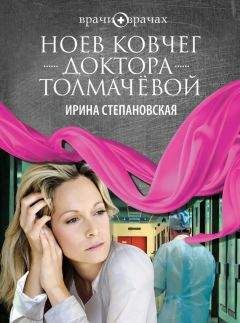А в кабинете фельдшера та самая фельдшерица, что разговаривала с Ашотом, и санитарка приемного отделения уютно уселись попить чайку.
– Чего это, кто там разорался? – спросила пожилая санитарка у фельдшерицы – обладательницы того самого металлического голоса.
– Да хрен его знает! Говорит, из Америки приехал. Пьяный, наверное. – Фельдшерица с хрустом развернула конфетную обертку.
– А если и не пьяный, зачем он нам, американец-то? – с подобострастием отозвалась санитарка. – Будет еще тут вынюхивать что-нибудь у нас. Главный врач приказал, кроме «Скорой», дверь никому не открывать.
– И правильно, что приказал. – Фельдшерица стала наливать чай в блюдечко, чтобы скорее остыл, пролила, чертыхнулась. – Ты-то ведь помнишь, что здесь два года назад случилось?
– Да я тогда, наверное, не работала еще. – Санитарка принесла из подсобки тряпку. Обе стали вытирать пролитый чай.
– Да, не дай господи! Как вся больница-то уцелела… – Порядок на столе был восстановлен, и чаепитие возобновилось. – Ночью пробрались в больницу бандиты, да как устроили стрельбу! Перестреляли все отделение реанимации. И больных положили, и врачей. Вот и думай теперь, кому двери открывать, а кому – нет.
– А ведь у этого-то, – санитарка показала пальцем в окно, – вид тоже был какой-то подозрительный. Не русский. И говор – не русский.
– Ну, слава богу, пока еще не ночь. Если что – милицию будем вызывать, – успокоила санитарку фельдшерица, и обе дамы, попив чайку, занялись, наконец, своими делами.
– Знаете, а ваш кабинет вовсе не похож на царство Танатоса, – сказал Владик Дорн, вернувшись с Ризкиным из секционной и как-то по новому оглядывая просторную комнату со всеми ее научно-бытовыми особенностями. Михаил Борисович снял халат и, оставшись в одной медицинской пижамной рубашке с короткими рукавами и красных боксерских трусах, обнаружившихся под зелеными хлопчатобумажными брюками, стал натягивать боксерские перчатки. Владик положил возле своего микроскопа историю болезни вместе с листком своих записей и не без удивления стал наблюдать, как Ризкин боксирует с грушей. Михаил Борисович выглядел классно! Узкая голова его повернулась чуть вбок и подбородком почти прижалась к тому углублению в самой верхней части груди, от которого начинается шея и которую врачи всего мира называют яремной вырезкой. Взгляд серо-зеленых крапчатых глаз стал по-ястребиному острым, губы превратились в узкую щель напряженной полуулыбки. Шея набычилась, плечи поднялись, и Владик понял: за кажущейся легкостью – годы тренировок. Михаил Борисович наносил серию частых ударов. Ноги, обутые в мягкие дорогие спортивные туфли на гибкой подошве, мелко и упруго передвигались, как в быстром фокстроте. Груша пружинила от ударов. И было во всей маленькой, одновременно расслабленной и сконцентрированной фигуре Михаила Борисовича что-то настолько бесовское, что Владик еле сдержал почти непреодолимое желание обойти Михаила Борисовича вокруг и убедиться, что из его красных боксерских трусов не вылезает, извиваясь, черненький с кисточкой хвостик.
Так Владик любовался Ризкиным ровно пятнадцать минут. Когда только раздалось очередное четвертьчасовое мяуканье маятникового кота, Михаил Борисович прекратил свои прыжки и ловким движением разом остановил грушу.
– Ну как?
– Впечатляет! – искренне сказал Владик. – Вы прямо как профессионал.
– Очень помогает после секции. Рекомендую, – сообщил ему Михаил Борисович и достал из шкафа большое полотенце.
– Психологическое напряжение снимает? – понимающе спросил Владик.
– Психологическое? Это – да… – Михаил Борисович уже пребывал в небольшой смежной с кабинетом комнате, в которой оказались раковина и туалет. – Психологическое – конечно. Но после года работы гораздо больше неприятностей оказывает вынужденная возле секционного стола поза.
– Как у хирургов, – догадался Владик.
Михаил Борисович вытирал мокрую голову и шею.
– Ну, что-то вроде. Хотя хирурги, мой мальчик, как правило, работают только с одним органом, ну или с группой органов, но в одной полости: грудной, брюшной, черепной коробке… А мы со всеми сразу. Впрочем, – задумался Ризкин о судьбе хирургов, – им тоже бывает ох как несладко! Операции идут по четыре-шесть-восемь часов…
– Ну, да… И потом они ведь все-таки работают с живым организмом… У них ответственности больше… – неуверенно сказал Владик.
– За «ответственности больше» я тебя сейчас нокаутирую, – грозно заявил Михаил Борисович, окончательно появляясь из туалета. – Не может быть в медицине сравнения, у кого больше ответственность. Работа может быть или более, или менее физически трудной. А ответственность у всех одна. Только проявляется по-разному. Но вот как ты думаешь, если врача за неудачно сделанную операцию грозятся посадить, а мы выясняем, что он не виноват, это большая или маленькая ответственность? А когда должны срочно принять решение о доброкачественности или злокачественности процесса у еще ожидающего больного или когда он уже лежит на операционном столе, это как?
– Да я все это понимаю, я сдаюсь! – поднял обе руки Владик.
– Или в самых плохих случаях при расхождении диагнозов надо доказать врачу, что он или диагноз поставил неправильно, или лечил больного неправильно. Ты думаешь, это не ответственно, сказать твоему коллеге, что он дурак и из-за него погиб человек?
Владик сполз со своего стула и шутя повалился перед Ризкиным на колени.
– Я уже преклоняюсь перед вашей специальностью, великий жрец патологической анатомии.
Ризкин отступил на шаг, занес перед Владиковым лицом сжатый по-боксерски кулак:
– Издеваешься?
– На полном серьезе, шеф! – Владик встал с колен и сел на свое место. Ризкин подошел к шкафу, вытянул оттуда какой-то документ, бросил Владику и стал переодеваться. Это было удостоверение кандидата в мастера спорта по боксу, выданное на имя Ризкина Михаила Борисовича в 1984 году. «Он молодец, хорошо выглядит, я в этом году только родился, – подумал Владик. – Я бы столько лет ему не дал». И вдруг никогда и ни к кому ранее не испытанное чувство – ни к своим учителям, ни к институтским преподавателям, ни к родителям, ни к бывшему коллеге Аркадию Барашкову, – возникло в душе Владислава Федоровича к его новому начальнику. Владик вдруг, неожиданно для себя, зауважал Ризкина. И самое странное, что ему даже понравилось это чувство, хотя он до конца еще его не осознал.
– Михаил Борисович, – помялся Владик. – А можно, я буду называть вас – «шеф»?
– Что я тебе, «Бриллиантовая рука», что ли?
– Нет, честно, я даже не думал про фильм. Просто вы в нашей задрипанной больнице ни на кого не похожи. В хорошем смысле, я имею в виду… Вы… вы умный и оригинальный! – нашел он, наконец, нужное слово. – И у вас такая клевая бабочка, ну, галстук я имею в виду… И вообще… – Владик смешался. Он уже давно чувствовал себя взрослым, даже еще в школе. И он уже давно не нуждался в учителях. И вдруг случайно, можно сказать от безысходности, придя на работу к Ризкину, он осознал, что мог бы видеть в этом некрасивом, своеобразном и по-своему обаятельном человеке кого-то вроде старшего товарища. Даже можно было бы сказать Учителя, если бы Владик не ненавидел всегда это слово.