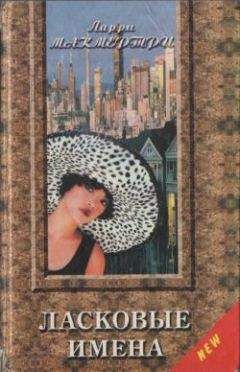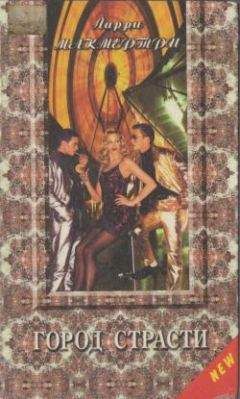– Я люблю его, но Клее мне все-таки нравится гораздо больше, – заметила Эмма.
Это была другая прекрасная картина ее бабушки, купленная ею уже в очень пожилом возрасте. Ее мать никогда не любила эту картину, хотя и не возражала, чтобы она висела у нее в гостиной. Видимо, это был последний предмет многочисленных разногласий между Авророй и Амелией Старретт, потому что та покупала картину, когда она уже стоила недешево. Аврора не хотела, чтобы мать тратила большие деньги на картину, которая, как ей казалось, того не стоила, и тот факт, что со времени покупки она многократно увеличилась в цене, не развеял ее неприязни. Это была поразительная, смелая композиция нескольких линий, одни серые, другие черные, третьи красные, расположенные под углом друг к другу и не соприкасающиеся. Ее мать отвела для картины место на белой стене рядом с пианино, как казалось Эмме, слишком близко от больших окон. По временам картину заливал такой яркий свет, что она становилась почти невидимой.
– Ну ее-то ты можешь взять, как только обзаведешься приличным жильем, – сказала Аврора. – Я не до такой степени ее не люблю, чтобы сослать в гараж, но когда у тебя будет нормальный дом, ты должна будешь ее забрать. Это была одна из серьезнейших ошибок твоей бабушки, другой ошибкой, разумеется, был твой дед.
– Вот у кого был шарм, который ты так ценишь, – заметила Эмма.
– Да, отец был очарователен, – согласилась Аврора. – Шарма хватало каждому, кто был воспитан на чарльстоне, это я понимаю. Он никогда не повышал на меня голоса, пока не дожил до восьмидесяти лет, но в этом возрасте постарался наверстать упущенное. Последние десять лет своей жизни он только и кричал на меня.
– Почему? – удивилась Эмма.
– Откуда мне знать. Может быть, этим чарльстонщикам шарма отпущено всего на восемьдесят лет.
– Звонят в дверь.
Аврора зашла в спальню и взглянула на часы – старые бронзовые корабельные часы, полученные в наследство от дяди, который бывал в море.
– Это он, – сказала она, – как всегда раньше времени.
– Всего на десять минут.
– Иди впусти его, раз ты его обожаешь, – сказала Аврора. – Я намерена простоять на балконе еще десять минут, как и планировала. Можешь ему сказать, что я разговариваю по телефону.
– По-моему, ты ужасна, – сказала Эмма. – Ты же уже готова.
– Да, но я настроена еще полюбоваться луной. А потом я буду с Альберто как можно любезней. Кроме того, он генуэзец до мозга костей. Ты же читала, какие они расчетливые. Они даже Америку чуть не присвоили. Альберто всегда приходит на десять минут раньше. Он надеется, что я отнесу этот факт на счет его безумной импульсивности – когда-то она действительно была ему свойственна. Пойди впусти его, и пусть он откупорит вино.
2Когда Эмма открыла дверь, в дом вошла большая часть цветочного магазина, – а с ней два низеньких итальянца, молодой и старый. Безумно импульсивный Альберто ворвался с красными розами, голубыми ирисами, пучком анемонов и апельсиновым деревцем в горшочке. Альфредо, его сын, держал в руках охапку белых лилий, несколько миниатюрных желтых роз и какой-то загадочный букет, напоминавший гирлянду.
– Большой груз, – объявил Альберто, скрежеща зубами под тяжестью апельсинового деревца. – Ох, и цветов я ей сегодня принес.
Альберто и его сын Альфредо, оба ростом лишь на дюйм повыше Рози, вошли в гостиную и стали раскладывать цветы на ковре. Как только Альберто избавился от апельсина, он повернулся, быстрыми шагами подошел к Эмме, протягивая обе руки. Глаза его сияли, а улыбка казалась одухотворенной.
– Ах, Эмма, Эмма, Эмма. Альфредо, подойди и поцелуй ее. Только посмотри на нее – великолепное желтое платье, великолепные волосы, а какие глаза! Когда у тебя будет ребеночек, милая? Я тебя люблю.
Он крепко сжал ее в объятьях и громко поцеловал в обе щеки, в довершение похлопал по спине, и потом его итальянская шумливость внезапно прошла, словно энергии ему хватило только на пять секунд.
Девятнадцатилетний Альфредо с круглыми щеками и глазами навыкате принялся за свою порцию поцелуев, но отец вдруг твердой рукой отстранил его.
– Зачем ты себе льстишь? Она вовсе не хочет тебя целовать. Я хотел тебя подразнить. Пойди и сделай нам несколько Кровавых Мери; если нам не подфартит, они придутся очень кстати.
– Вы в последнее время не приходили в магазин, – сказал Альфредо, пожирая Эмму своими выпученными глазами. Он начинал постигать семейный бизнес – торговлю музыкальными инструментами – с самых азов. Азы приходились на отдел губных гармошек, и Альфредо говорил о них при малейшем удобном случае.
– К чему этот разговор? – вмешался Альберто, – ей не нужна гармошка.
– На ней может научиться играть кто угодно. Альфредо повторял эту фразу раз по восемьдесят на дню. Обняв Альберто, Эмма повела его на кухню, чтобы найти вазы и открыть вино. Проходя мимо лестницы, он устремил кверху алчущий взор. С тех пор, как он допускался наверх, прошло много лет, если не считать того, что однажды ему было разрешено подняться, чтобы бросить беглый взгляд на Ренуара, но дарованное время он употребил, главным образом, на созерцание кровати, вызвав немалое раздражение Авроры. Когда-то между ними все было по-другому, и Альберто никак не мог это забыть, хотя с тех пор у него было две жены. В отношениях с ними хорошо зарекомендовал себя прямолинейный подход, но с Авророй ему уже не удавалось прямолинейно подойти к такому прямолинейному подходу. Даже в своих фантазиях он не мог приблизиться к верхним подступам в ее доме, и все, что он воображал, всегда происходило в гостиной.
– Эмма, она меня сегодня примет? – спросил он. – Я достаточно наряден? Она сегодня в хорошем настроении? Я думаю, ей понравятся мои цветы, по крайней мере, я на это надеюсь, но мне кажется, что я зря взял с собой Альфредо. Я стараюсь не давать ему говорить о гармошках, но что я могу сделать? Он молод и ничего больше не знает, так о чем же ему говорить?
– Ах, не беспокойся, я о тебе позабочусь, – пообещала Эмма.
Когда ей было четырнадцать лет, Альберто занимался с ней постановкой голоса. В свое время он был популярным тенором и выступал во всех престижных оперных театрах мира, но из-за раннего инфаркта или инсульта оставил свою карьеру и занялся музыкально-инструментальным бизнесом. У ее матери его участь была решена, он не имел шансов, но не сдавался, отчасти поэтому Эмма любила его. Никакая галантность не трогала ее так, как эта. Он уже успел сильно помяться. Костюм его был мешковат и слишком плотен для жаркого вечера, галстук завязан неуклюже, и грязь из горшка с апельсином запачкала манжет. Но хуже всего было то, что на манжетах были неподходящие запонки.