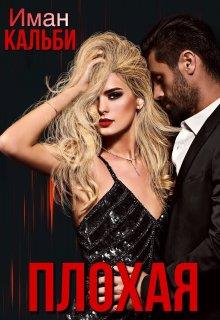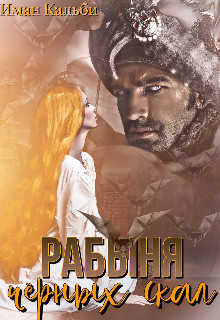мне сейчас нужен.
Я преднамеренно демонстрирую ему свое равнодушие и холодность. Мое тело как неживое. Я даже не шевелюсь сейчас. Просто кукла, бревно…
Он чувствует мою отрешенность, хватает за шею, заставляет посмотреть на него.
— А говоришь, что поумнела…
— Поумнела, Даниэль. — заглядывая в глаза смело и решительно, — Делай, что хочешь, что останавливаешься… Вырываться не буду. Ты прав, я ведь не в силах тебя остановить. Но не думай, что твои попытки меня сломать заставят меня тебя хотеть и отвечать тебе со всей страстью.
Его грудь тяжело вздымается. Злой взгляд плывет в потоках стекающих по лицу ручьев воды, на которые он даже не обращает внимания.
— Значит своих ёб…рей ты хотела, а меня нет? Чем же заливные толстосумы с прожженными коксом носовыми перегородками лучше? Или ими легче было управлять, да? Думаешь, что потечешь подо мной, как уже потекла во время танца?
Его злая усмешка скрывает уязвленность. Я собираю себя в кулак, приказывая ментально держать удар, что бы мне этого ни стоило.
— А ты льстишь себе, самовлюбленный ливанец, — выплевывая смелые слова ему в лицо, — ответ прост, Даниэль. Они не были убийцами слабых. Они не продавали невинных девочек в рабство, не расчленяли их на органы. Пусть эти, как ты говоришь, «толстосумы» были никчемными, порочными, разбалованными, но в них не было первородного зла, какое есть во всех вас, людях, управляющих этим адом, учинивших этот треш со своей страной.
— Ты ничего о нас не знаешь, — бросает мне в ответ.
— И не хочу знать. Мне все очевидно… Ты и Удав…
— Во- первых, я не имею отношения к делам Удава. Это не моя зона ответственности. Я не могу и не буду вмешиваться в его епархию. У нас здесь это так не работает, иначе будет война всех со всеми. Я не лезу к Эли, он не лезет ко мне. Но даже это не имеет значение для тебя, Алёна. Не смеши и не рассказывай мне сказки о том, какими прекрасными были твои любовники. Важно то, что для них ты была просто ничтожеством и шлюхой.
— Это ты заставляешь меня чувствовать себя ничтожеством и шлюхой, Даниэль, а они не заставляли. Да, не смотри на меня сейчас иронично и скептически. Если бы они хотели меня просто как шкуру, как хочешь сейчас ты, они бы не ухаживали за мной, как за принцессой, они бы не осыпали меня самыми дорогими подарками на свете, не разговаривали со мной днями напролет, не разделяли бы со мной трапезы, хобби, впечатления, не проводили бы со мной самые яркие минуты своей жизни. С чего вообще ты решил, что я хуже и ниже твоих певичек и моделей, да даже просто обычных корыстных ливанок, все мысли которых только о деньгах? Я знаю ваш народ, не надо мне сейчас ничего доказывать. Всё имеет цену. И я, и ты, и твоя мать имела, и дочь будет иметь. Да весь наш мир продается и покупается, кому, как ни вам в Ливане это прекрасно известно… Я вот смело могу посмотреть в твои глаза и честно тебе сказать- в своей жизни я продала себя как товар только раз. Речь шла о моей девственности. Мужчина, который ее у меня купил, был в высшей степени галантен и нежен. Да, он не создавал иллюзий, но они были и не нужны. Он дал мне гигантскую по моему пониманию на тот момент сумму. Эта сумма позволила мне оплатить операцию отцу, который бы без нее умер. Согласись, достойная цена даже для добропорядочной матроны голубых кровей. После этого у меня были разные влиятельные мужчины. И да, они платили мне, но не за конкретный товар. Они платили мне за то, что я делала их счастливее, что я дарила им праздник, удовольствие, радость, дарила им свое время. Что здесь предосудительного? У меня не было расценок, я никогда ничего не просила взамен своего присутствия. Они сами решали, чем порадовать меня. Поверь, если бы кто-то решил сэкономить и оставил бы меня ни с чем после очередной красивой поездки или интересного ужина в компании умных людей, я бы не расстроилась и не высказала бы претензий. Чем то, что делала я, хуже, чем работа писателя, актера или художника, создающего что-то для удовольствия и интереса других людей? Поэтому да, Даниэль, кроме идеального мужского тела, которое заставило меня как женщину откликнуться на тебя во время танца, в тебе нет ничего, что могло бы меня привлечь… Ничегошеньки… Это ты ничтожество в моих глазах…
— Сука… — злобно прошипел он в ответ, уже не скрывая свою ярость, — цену себе набиваешь. Ты просто блядь, шармута. Ничего больше в тебе нет…
— Хорошо, — ответила я тихо и устало, тяжело выдохнув. — Куда мне лечь, чтобы ты мог меня трахнуть, как шармуту, и, наконец, оставить в покое?
Резко жмурюсь, когда его кулак со всей силой врезается в кафельную поверхность стены в паре сантиметров от моего лица.
Когда я открываю глаза, вижу лишь его силуэт, мелькнувший в дверном проеме. Дальше дверь хлопает что есть силы, а я сползаю по стене на пол, понимая, что трясущиеся ноги меня больше не держат.
Не успела я озадачиться вопросом того, что делать дальше, в скотобойню вошла какая-то женщина, ранее мне не знакомая, принесшая полотенце и какую-то одежду. Она не стала со мной здороваться, просто повесила вещи на крючок и вышла. Когда я обтерлась, переоделась и тоже покинула это жуткое место, даже не удивилась, что она ждала меня снаружи.
Все так же не глядя на меня, отрешенно-уставши, без энтузиазма и совершенно равнодушно, она показала мне жестами, чтобы я следовала за ней. Вопреки моему предчувствию, в общий зал с пленницами мы не вернулись, повернув в совершенно другое крыло школы, где я раньше никогда не бывала.
Дойдя до большой, железной двери, явно появившейся здесь недавно, судя по свежим следам герметика на стыках коробки и стены, она нажала на звонок. Открыли нам почти сразу. Я пересекла порог и по ударившему в нос запаху антисептика и чего-то еще медицинского сразу поняла, где мы находимся. Душа ушла в пятки…
— Ложитесь на кушетку, — последовала краткая команда той самой женщины на ломанном английском языке.
Я молча выполнила приказ, понимая, что сейчас будут со мной делать.
Следующие двадцать минут она водила джойстиком по моим внутренностям, щедро поливая покрывшуюся мурашками кожу холодным прозрачным гелем. Делала скрины узи, параллельно