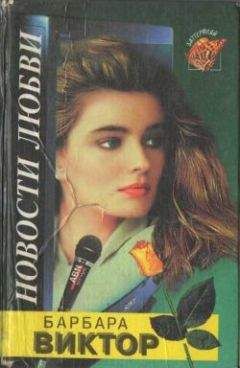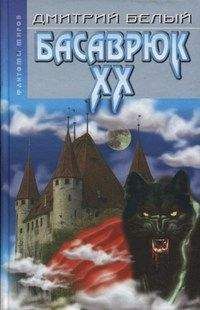– Я решил не запрещать тебе этого. Пусть тебя как следует проучит сама жизнь. Ты узнаешь, что такое зарабатывать на хлеб. Тебе не поздоровится, но я намерен предоставить тебе это удовольствие и позабочусь, чтобы ты хорошо поняла, что есть предел и моему терпению.
Этой ночью я поняла, что Мэгги Саммерс и Эрику Орнстайну отнюдь не суждено прожить вместе долгую жизнь и умереть в один день. Внезапно я ощутила к этому человеку необыкновенную привязанность, потому что впервые за то время, что мы были мужем и женой, мне это ровным счетом ничего не стоило. Мне захотелось сказать ему, что у нас еще есть шанс что-то сберечь, однако он все равно бы не понял меня, а я бы не смогла объяснить. Эрик Орнстайн может быть, был такой же жертвой, как и Мэгги Саммерс.
Я не возражала, когда он выключил свет и забрался в постель. Я не возражала, когда он подполз ко мне и овладел мной со всем своим ожесточением и разочарованием. Это было ново для нас обоих. Наконец в доме Орнстайнов установилось что-то наподобие равенства. Мы были равны в нашей подавленности.
Когда я начала мой драматический репортаж с того места, где погиб Джой Валери, я заметила, что неподалеку от камеры стоит Ави. Упершись в бока крепко сжатыми кулаками, он внимательно следил за каждым моим движением. Я уже решила про себя, что не буду произносить тех слов, которые были заготовлены у меня в качестве душещипательного комментария по поводу смерти Джоя.
– Добрый вечер, леди и джентльмены. В Бейруте ужасная, промозглая ночь. С вами Мэгги Саммерс… – Ничего этого я не сказала.
Отринув сценарий, я почти выкрикнула следующее:
– Никакой ужасной и промозглой ночи сегодня в Бейруте не будет!
Ларри Франк, мой продюсер, подбежал ко мне, безуспешно стараясь меня успокоить. Он обратился ко мне максимально умиротворяющим тоном.
– Мэгги, девочка, ты устала. Ты потрясена. Почему бы тебе просто не прочитать по бумажке, и мы бы все спокойно разошлись спать…
– Я тебе не девочка, – сквозь зубы процедила я. – Я женщина. А ты, Ларри, бесчувственный идиот. Можешь засунуть себе в задницу свои утешения, но я все равно не буду этого читать.
– Ладно, Мэгги, дорогая, – нежно ответил он. – Если ночь не ужасная и не промозглая, тогда пусть она будет холодной и дождливой. Или темной и неприютной, а? Выбирай, что тебе по душе, радость моя.
Однако ни о каком выборе не могло быть и речи. Просто я не собиралась превращать действительно драматичное событие в сводку погоды. Я отказывалась измерять степень трагедии тем, какая нынче вечером погода в Бейруте. В этом своем репортаже я собиралась поведать миру о том, как моему двадцатисемилетнему звукорежиссеру, работавшему по заданию Ай-би-эн в Ливане, случилось сидеть не в том месте и не в тот момент, а мне, счастливице, сидевшей всего в полуметре от него, довелось увидеть его смерть.
Вокруг меня собралась вся съемочная группа. В руках стаканчики горячего кофе. На лицах удивление. Глядя на них в надежде найти поддержку, единственное, что я увидела на их лицах, – то же самое чувство – «слава Богу, что на его месте оказался не я». Их сейчас можно было бы взволновать лишь одним – еще раз врезав по ним из гранатомета.
– Мэгги, дорогая, – начал Ларри с преувеличенным спокойствием, которое внезапно превратилось в оглушительное крещендо, – у нас всего две минуты эфира, а потому, прошу тебя, милая, пожалуйста, возьми этот микрофон, поднеси его к своим драгоценным губкам и расскажи этим прекрасным людям, что сегодня случилось с Джоем Валери. Если же ты не сделаешь этого сейчас, Мэгги, прелесть моя, у нас все шансы увидеть то, что случилось с Джоем, еще раз. Держу пари, ты и сама знаешь почему. А если ты забыла, я тебе напомню. Дело в том, Саммерс, что мы все находимся в этой сраной военной зоне. Поэтому давай! У тебя одна минута, чтобы начать… И большое тебе спасибо.
Несколько человек наградили его не сходя с места небольшой овацией, поскольку он ухитрился сказать эту длинную тираду на одном дыхании. Весьма впечатляюще. Однако по-прежнему никакого разговора не могло быть ни о каком холодном и дождливом вечере. Как и о сыром и промозглом. Как и о темном и бесприютном… Если в этот момент Джой Валери мог наблюдать все происходящее, то, наверное, был бы немало удивлен.
«Добрый вечер, леди и джентльмены. С вами Мэгги Саммерс. Я веду наш репортаж из ливанского лагеря беженцев Сабра. Сегодня здесь погиб тот, кого мы все очень любили, – Джой Валери…»
Когда репортаж закончился, ко мне подошел Ави и, не говоря ни слова, набросил на мои вздрагивающие плечи свою кожаную летную куртку и усадил в джип.
– Теперь я понимаю, почему я так хочу тебя, – тихо сказал он.
Прогулка от парома до моей квартиры в Гринвич Вилледж порядком измотала меня. Стоя в фойе, я едва узнала в зеркальном отражении ту, что смотрела на меня. Женщина с синими кругами под глазами, скулы туго обтянуты кожей, а спутанные волосы в беспорядке рассыпаны по плечам. Дикий взгляд моих собственных глаз удивил меня. Общее прискорбное впечатление только усугублялось мятым черным платьем, сморщенными чулками и сапожками, заляпанными грязью, когда я пробиралась через задний двор из дома Розы и Тони Валери.
Мысленно я составила план – принять ванну, переодеться и немного подкраситься, пока не приехали Куинси и Дэн. Никто не должен заметить тоску, которая сидела у меня внутри. Мои мысли были все еще заняты Ави. Я попеременно представляла, то, как он стоит в аэропорту Бен-Гуриона – влюбленный и печальный, то как он уже возвратился к своей Рут, внутренне благодарный ей за скуку и предсказуемость, которыми она одаривает его. Мне припомнилась наша поездка из Джерико в Тель-Авив. Два часа по восхитительной дороге с буйной растительностью по обеим ее сторонам. Однако я едва смотрела на дорогу, – я не могла оторвать своих рук от Ави, а он старался не потерять управление и не врезаться в какой-нибудь столб.
– Нам не следует вылезать из постели больше, чем на пятнадцать минут, – говорил Ави со смехом. Он наклонялся ко мне, целовал меня, трогал меня, пока наконец мы не остановились и не перебрались на заднее сиденье. А вернувшись в Тель-Авив, снова легли в постель.
Моя гостиная выглядит теперь так сиротливо. Тонкий слой пыли покрывает мебель и картины. Я беру со стола разные забавные вещицы, которые я собирала, привозя из разных стран мира, сдуваю с них пыль. Каждая из них напоминает мне о своем. Даже фотографии родителей, которые улыбаются мне из резных серебряных рамок, словно незнакомые и искренне любящие меня люди, возбуждают приятное чувство. Они как будто говорят мне: добро пожаловать домой, Мэгги, и готовы сохранить в секрете мой приезд от моих настоящих родственников, позировавших для этих снимков.