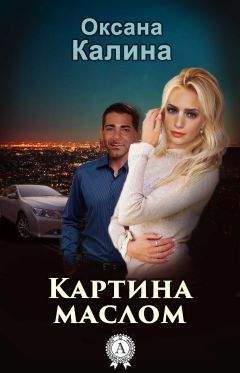— Взгляни.
Перед нами на залитом солнцем скалистом плато лежали руины Феста.
— Четыре тысячи лет назад на этом месте стоял прекрасный дворец. Дворец царя Радаманта, сына Зевса и Европы. Это был величайший из правителей, чья держава, совместно с державой царя Миноса, столетиями господствовала на море, вселяя ужас и благоговение в сердца чужеземных царей и военачальников. Его подданные жили в роскоши и довольстве в своем процветающем просвещенном государстве, поклонялись могущественным богам, вели захватнические войны, переделывая мир по велению собственных прихотей и страстей. И что ты видишь сейчас? — Он сделал широкий жест, охватывающий крипту с двумя столбами, центральный двор и перистиль[23]. В слепящем свете послеполуденного солнца обнаженные раскопками руины казались еще более безжизненными. — Пески времени.
Его слова вошли мне в сердце, как нож. И сразу же после этого наступило облегчение.
— Я только хотела сказать...
Нейл встал и стоя продолжал смотреть в том же направлении, куда указывал рукой.
— Это не важно, Элена.
В эту минуту, глядя на него, стоящего рядом — такого безумно привлекательного, такого живого, с теплой кожей и растрепавшимися от ветра темными волосами, — я осознала совершенно отчетливо, что он смертен. Что он умрет. И лет через пятьдесят уже ни одной женщине не будет дано заглянуть в эти бледно-зеленые смеющиеся глаза, тронуть смуглое запястье с полоской браслета, ощутить тяжесть гибкого, жаркого, мускулистого тела, провести кончиками пальцев по застывшему от отчаяния лицу, повторяя очертания бровей и губ. Никогда.
— Ты художник, — привожу я не особо веский аргумент.
— Считаешь, это может служить обоснованием моего появления на свет?
— А разве нет?
— Взгляни, — повторяет он снова. — Ты до сих пор не поняла?
Яркий свет и глубокая тень делают останки древних стен черными с одной стороны и золотыми с другой. Перистиль в центре царских покоев с сохранившимися кое-где основаниями колонн. Взломанные землетрясением своды просторных кладовых...
...длинные вереницы подданных, круглый год приносящих ко двору своего властелина излишки урожая, ибо здесь их следует хранить и обрабатывать, а также обменивать на привозные товары, оплачивать труд дворцовых хозяйственных распорядителей и распределять среди тех несчастных, которые не в состоянии себя прокормить. Ткани, древесина, оливковое масло, лечебные снадобья из местных трав, расписная утварь, украшения, бронзовые кинжалы, сосуды из драгоценных металлов — все это в изобилии стекается во дворец, где уже ждут чужеземные купцы, готовые предложить взамен золото, серебро и алебастр из Египта, медь из Турции и с острова Кипр, черный обсидиан с острова Мелос, корунд с Наксоса, ценные породы камня из Южного Пелопоннеса, слоновую кость из Сирии и многое, многое другое. Нарядные женщины, исполняющие ритуальные танцы на ежегодных празднествах в честь Великой богини-матери: на них длинные оборчатые юбки из крашеной шерсти и тугие корсажи, оставляющие открытыми груди, высоко зачесанные волосы украшены лентами, диадемами и изящными шпильками. Праздничные шествия, восторг и преданность в глазах ремесленников и крестьян. Эра благоденствия, о которой мы можем только мечтать...
...и снова раскаленные солнцем камни, немые и скорбные свидетельства былого величия.
— Мы созданы подобно камням, имеем очи и не видим.
Он говорит, не глядя на меня. Говорит тихо и хрипло, безо всякого выражения.
Слова мне знакомы. Откуда они? Первоначальная версия «Фауста»?..
— Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки[24], — продолжает он еще тише.
Меня пробирает озноб, несмотря на жару.
— Все труды человека — для рта его, а душа его не насыщается. Что существует, тому уже наречено имя, и известно, что это — человек, и что он не может препираться с тем, кто сильнее его. Много таких вещей, которые умножают суету: что же для человека лучше? Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?[25]
Наблюдая за ним, стоящим так прямо и просто, я будто заново увидела морщинки в углах его страдальчески прищуренных глаз, подрагивающие от нервного напряжения губы, внезапно выступающую по всему телу испарину, свидетельствующую о какой-то внутренней боли, которая время от времени заставляет его сжимать пальцы в кулаки.
Он болен.
Эта истина открылась мне с ошеломляющей ясностью.
— Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем. — Нейл обернулся, и мне показалось, что он готов рассмеяться. Голос его смягчился. — Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости[26].
Я вытащила из кармана носовой платок и промокнула взмокший лоб. Надо же, озноб в такую жару! Может, теперь у меня тепловой удар?
— Иными словами, — подытожила я, — делай что хочешь и не жалуйся, потому что смысла в этом все равно нет. Нет смысла. Все суета.
— Искать смысл там, где его заведомо нет, — это, несомненно, суета, — подтвердил Нейл.
Он вернулся на скамейку, и я с беспокойством обнаружила, что он тоже дрожит.
— Слушай, Екклесиаст, тебе не кажется, что мы перегрелись?
Нейл улыбнулся, глядя мне в глаза:
— Я пытаюсь сказать тебе, что смысл есть. Только не там, где ты его ищешь.
— Где нужно искать? Подскажи.
— Ничто не теряется в этом мире, даже пар, который исходит из наших уст: как все вещи, он имеет свое место и свое назначение, и Святой, да будет благословен Он, заставляет его служить Своим Деяниям; ничто не падает в пустоту, даже слова и голоса человека, но все имеет свое место и назначение[27]. Конец цитаты.