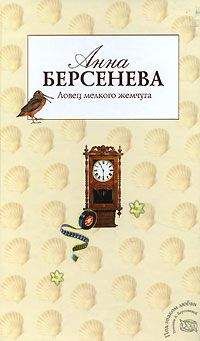– Он не ее однокурсник, он на первом курсе учится. У Ромки Муштакова.
– Бедняга! – В голосе снова послышалась улыбка. – Чему же он научится? Ромке-то не до них теперь.
– Ой, Миша, меня меньше всего волнует, чему он научится! Меня Марфа волнует, а вовсе не он.
– И что ты так взъелась на него? – удивился Миша. – Нормальный вроде парень – высокий, видный такой, хоть я и не разглядел особо. Прошел себе тихонько по стеночке и уснул. Ну, развезло – дело молодое, нормы своей еще не знает. Не далее как позавчера, помнится, в дупель пьяный Петька Якобсон уснул в прихожей под вешалкой – и ты ничего, посмеялась только да одеяло с подушкой ему вынесла.
– Мишка, ну что ты глупости болтаешь? – Георгию показалось, что и Мария Самойловна наконец улыбнулась. – При чем здесь Петька? Если бы Марфа относилась к этому типу так же, как относится к твоему Петьке, то я ничего не имела бы против, пусть хоть в сортире спит.
– А что, Марютка как-то особенно к нему относится? – с интересом спросил мужчина. – А я не знал. Смотри, Маня, кофе убежит.
– Не убежит, я слежу. Странно было бы, если бы ты знал. Она же скрытная как не знаю кто! Ну, меня не проведешь, я ее знаю гораздо лучше, чем она думает. По-моему, она вот-вот в него влюбится. Надо это ей, как по-твоему? Не хватало ей голову потерять из-за деревенского паренька, да еще вот именно сейчас!
– По-моему, наша дочь и потерянная голова – две вещи несовместные, – улыбнулся Миша. – Она же у нас умная девочка.
– Конечно, не дура. Но она книжная девочка, – отчеканила Мария Самойловна. – И в жизни на самом деле понимает очень мало. А он и правда видный – знаешь, фактурный такой, косая сажень в плечах, да еще голову ей дурит какими-то своими творческими исканиями, внушает к себе интерес… Умело действует, между прочим: чем другим Марфу не больно-то заинтересуешь! И чем это может кончиться, дружбой между мальчиком и девочкой? Это и в сорок лет проблематично, а в двадцать уж точно невозможно, как будто ты не знаешь.
Звякнули чашки – наверное, она разливала кофе. По квартире разносился густой кофейный запах, и Георгию почему-то показалось, что так пахнет золотистое дерево старинной мебели, и стеганое лоскутковое одеяло, и книги, и даже оловянный человечек с часами…
Напротив двери висела на стене картина в темной деревянной рамке; Георгий только теперь ее заметил. Это была совсем небольшая акварель в коричневых тонах. Густыми, резкими, нервными мазками на ней была изображена девочка. На портрете она выглядела совсем маленькой, лет пяти, но невозможно было не догадаться, что это Марфа – так точно было передано выражение ее лица: серьезность, и насмешка, и беззащитность… Как можно было все это передать всего несколькими движениями кисти, Георгий не понимал, но сходство было таким ошеломительным, что он даже улыбнулся, хотя ему было сейчас совсем не до смеха.
– Не надо сахар, Манюня, не надо! – донеслось с кухни. – И так пузо отрастил. Как его хоть зовут?
– Она Герой зовет – облагороженный вариант. А все остальные, вероятно, Гошей или Жорой. – Прямо «Москва слезам не верит»! – засмеялся Миша. – Да ладно, Мань, не преувеличивай. Фигня какая-то! Радоваться надо, что она хоть с кем-то общается. Ей же с ровесниками вообще никогда интересно не было, вроде ты не помнишь. Лучше будет, если она опять над книжками сутками будет сидеть? Или влюбится в какого-нибудь старого алкаша из Дома кино?
– Молодой алкаш черт знает откуда, конечно, предпочтительнее, – усмехнулась Мария Самойловна. – И зря ты думаешь, что это так безобидно. У нее же все всегда всерьез. Сегодня, можешь себе представить, ей на собеседование пора в посольство, а она вдруг заявляет: «Может, мне никуда не ехать?» Это, по-твоему, тоже фигня?
– Это не фигня, – согласился Миша. – Но все-таки, я думаю, Марютка не такая дура, чтобы из-за какого-то рубахи-парня отказаться от Англии. Тем более, ты говоришь, она в него влюбится еще только «вот-вот». Да и вообще, может, он и ничего, перспективный. Если талантливый…
– Талантливый! – возмущенно воскликнула Мария Самойловна. – Мишка, не строй из себя идиота! Как будто это не все равно, талантливый он или бездарный, тебе ли не знать! И какие у него могут быть перспективы, будь он хоть сто раз талантливый, когда даже Ромка Муштаков третий год в простое, об одном мечтает – как бы без мыла влезть в жопу Голливуду? Если талантливый, то еще даже и хуже: вместо того чтобы делом заняться, будет свой гибнущий талант оплакивать, пока не сопьется.
– Манюня, остынь, солнышко! – Мишин голос, в котором промелькнули было настороженные нотки, снова стал веселым и благодушным. – Во всем разобрались, все решили: замуж – не выходим, в Англию – едем. Все, я побежал, постараюсь все-таки вырваться днем.
– Я с тобой выйду на минутку, – сказала Мария Самойловна. – Косметичку заберу из машины, забыла вчера.
Георгий услышал, как двигаются на кухне стулья, и похолодел. А вдруг они по дороге решат заглянуть в комнату? Что он им скажет, как вообще в глаза им глянет после всего, что услышал? Он вжался в стенку и задержал дыхание, вперившись в свои забрызганные грязью ботинки, лежащие рядом с кушеткой. Такими странными, такими чуждыми они казались здесь…
Хлопнула входная дверь. Георгий схватил ботинки и, не надевая их, на цыпочках пробежал по коридору. По дороге он успел увидеть еще одну комнату – просторную, полутемную, со стоящим посередине овальным столом, накрытым темно-бордовой скатертью, – но ему было не до комнат и скатертей. Повезло – он сразу заметил свой кожух, висящий в прихожей на изогнутой деревянной вешалке. Впрочем, Георгий готов был выскочить на улицу и без кожуха, только бы не попасться на глаза Марфиным родителям.
Дрожащими руками он открыл замок – к счастью, дверь была не заперта на ключ, а только захлопнута – и, выскочив на лестницу, взлетел этажом выше. Он слышал, как поднялась снизу Мария Самойловна, как она открыла и закрыла дверь.
На улице он обнаружил, что так и не оделся – держит ботинки в руках, а кожух под мышкой. И это вдруг вызвало у него такую ярость, что он даже посмеяться над собой не мог, хотя в любом другом случае непременно почувствовал бы комичность ситуации: стоит растрепанный рыжий тип посреди улицы, на снегу, в носках, в полурасстегнутой клетчатой рубашке…
«Замуж не выходим! – зубами развязывая узлы на шнурках, думал Георгий. – Да кто ее звал замуж?! Хозяева жизни нашлись! Все-то они про меня знают на двадцать лет вперед, все-то уже за меня решили! Да плевать я хотел на них с ихними перспективами! И на дочку их тоже!»
Но, подумав о Марфе, он вдруг почувствовал себя так, словно его окатили холодной водой. Ярости не осталось и помину, а то, что пришло ей на смену… Это была растерянность и жалость. И жалость такая острая, такая неожиданная – Георгий даже забыл, что хотел поскорее свернуть куда-нибудь со Староконюшенного переулка, чтобы не столкнуться ненароком с Марфой. Он остановился, покрутил головой, словно прогоняя какое-то наваждение.