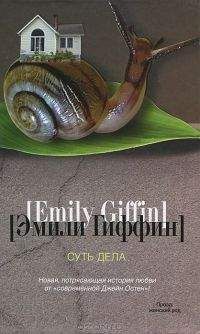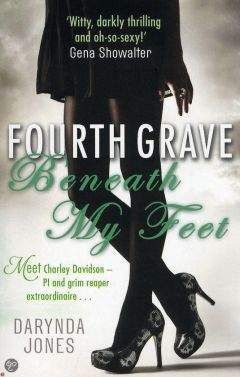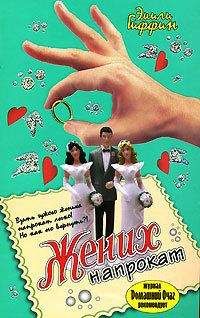— Занятно. У меня мысль о миссис Дэллоуэй вызывает тревогу, — говорю я. — Что именно тебя успокаивает? Ее так и не реализованные лесбийские наклонности? Или ее тоска по смыслу в бессмысленной жизни, заполненной беготней с поручениями, воспитанием детей и планированием приемов?
Это фраза из книги, которую читает моя мать, что она и подтверждает смешком.
— Дело тут не столько в книге, а в том времени, когда я впервые ее прочла.
— Когда это было? В колледже? — спрашиваю я, потому что сама полюбила Вирджинию Вулф именно тогда.
Мама качает головой:
— Нет. Декс был совсем маленьким... а я была беременна тобой.
Я склоняю голову набок, ожидая продолжения.
Мама скидывает розовые пушистые шлепанцы, которые совершенно не вяжутся с ее обликом, и говорит:
— Мы с твоим отцом все еще жили в Бруклине. Тогда у нас ничего не было... но мы были так счастливы. Думаю, это самое лучшее время в моей жизни.
Я рисую себе романтический кирпичный особняк с квартирой во весь этаж, отделанной в китчевом стиле семидесятых, где я провела первые три года своей жизни, но знаю его только по фотографиям, любительским фильмам и рассказам матери. Это было до того, как мой отец открыл свою юридическую практику и перевез нас в традиционный особняк восемнадцатого века в Уэстчестере, который мы называли домом, пока мои родители не развелись.
— А когда вы с папой... перестали быть счастливыми? — спрашиваю я.
— О, не знаю. Это произошло как-то постепенно... и вплоть до самого конца у нас бывали хорошие моменты. — На ее лице появляется улыбка, которая может быть прелюдией как к слезам, так и к смеху, — Этот человек. Он мог быть таким обаятельным и остроумным...
Я киваю, думая, что он до сих пор обаятельный и остроумный; два этих прилагательных люди всегда используют, описывая моего отца.
— Просто уж очень плохо, что он оказался таким бабником, — прозаически замечает мать, словно всего лишь констатирует: «Очень плохо, что на отдыхе он носил костюмы из полиэстера».
Кашлянув, я осторожно спрашиваю:
— А у него были другие романы? До нее? — Я имею в виду жену отца, Диану, зная мамину неприязнь даже к звуку ее имени. Я искренне убеждена: она наконец пережила разрыв с моим отцом и боль развода, но по какой-то причине не может простить «ту женщину», истово веря что все женщины — сестры, обязанные друг другу честностью, которой, по ее мнению, мужчины лишены от природы.
Она долго, серьезно на меня смотрит, словно прикидывает, выдавать ли тайну.
— Да, — наконец отвечает она. — Я знаю по меньшей мере о двух.
Я проглатываю комок в горле и разочарованно киваю, получив подтверждение того, о чем всегда подозревала.
— В тех он признался и полностью порвал с теми женщинами. Сломленный, в слезах и все такое, и поклялся, что это больше не повторится.
— И ты его простила?
— В первый раз — да. Полностью. Во второй раз я через это переступила, но уже никогда потом не относилась к нему по-прежнему. Я больше ему не доверяла. У меня всегда сосало под ложечкой, когда я искала следы помады у него на воротничках сорочек или номера телефонов в бумажнике. Из-за этого я чувствовала себя униженной. Из-за него. Тогда я и решила опять работать. Мне это нужно было для себя. Кроме того, мне кажется, я всегда знала, что он снова это сделает...
Она умолкает, взгляд ее устремлен в пространство.
Мне очень хочется обнять ее, но вместо этого я задаю еще один трудный вопрос:
— Думаешь, поэтому ты перестала... доверять всем мужчинам?
— Быть может, — отвечает она, нервно глянув в сторону лестницы, как будто боясь, что Ник или Декстер поймают ее злословящей. Она переходит на шепот. — И может, именно поэтому я так огорчилась из-за твоего брата... когда он разорвал первую помолвку.
Еще один первый раз — оказывается, я и понятия не имела о том, что моя мать подозревала возможную неверность, как и то, что Декстер мог ее чем-то огорчить.
— Но он хотя бы не был женат, — замечаю я.
— Верно. То же самое сказала себе и я. А кроме того, я терпеть не могла эту Дарси, — говорит мама, ссылаясь на прежнюю подругу Декса. — Поэтому результат оказался положительным.
Я открываю рог, чтобы продолжить разговор, но передумываю.
— Выкладывай, — говорит мама.
Я снова медлю в нерешительности, а потом спрашиваю:
— Ты доверяешь Нику?
— Доверяешь ли Нику ты? — парирует мама. — Это более важный вопрос.
— Доверяю, мама, — отвечаю я, прикладывая к сердцу кулак. — Я знаю, он не идеален.
— Никто не совершенен, — произносит она тем томом, каким проповедники-евангелисты говорят «аминь»
— И знаю, что наш брак не идеален, — говорю я, вспоминая о скверном начале вчерашнего вечера.
— Ни один брак не совершенен, — говорит она, качая головой.
Аминь.
— Но он никогда мне не изменит.
Мама устремляет на меня взгляд, обычно воспринимаемый мной как властный, но в прозрачном золотистом свете раннего утра я вижу в нем только материнскую озабоченность.
Она накрывает ладонями мои руки.
— Ник — хороший человек, — говорит она. — На самом деле... Но одному я научилась в жизни: никогда не говори «никогда».
Я жду, что еще она скажет, и слышу, как с верхней ступеньки лестницы зовет меня Фрэнк, нарушая очарование нашей близости.
— И в конечном счете, — продолжает она, не обращая внимания на нарастающие призывы своего внука, сидя так спокойно, словно не слышит его, — все, что у тебя действительно есть, — это ты сама.
В субботу, сразу как стемнело, в больницу приходит Джейсон, нагруженный приготовленным в микроволновке попкорном, двумя коробками китайских фиников и несколькими фильмами, разрешенными для просмотра детям в присутствии взрослых.
— Обожаю эти финики! — восклицает Вэлери, нанося упреждающий удар по тому, чем брат угрожал ей уже несколько дней.
Джейсон качает головой:
— Сегодня у нас ночной мальчишник.
Вэлери лихорадочно цепляется за подлокотники кресла, как при игре в музыкальные стулья.
— Ты всегда говоришь, что я одна из вас, — не сдается она.
— Не сегодня. У Чарли ночую я. Девушки не допускаются. Правильно, Чарли?
— Правильно, — отзывается мальчик, улыбаясь дяде и ударяя в его кулак сжатой в кулачок левой рукой, при этом стукаясь костяшками пальцев.
Вэлери, которая еще минуту назад голову сломала, придумывая, чем они с Чарли будут заниматься весь вечер, теперь чувствует, как нарастает в ней паника при мысли о разлуке с сыном. Иногда она уходила из больницы на несколько часов — купить еды навынос или с небольшим поручением. Как-то днем она даже вернулась домой, выстирала несколько партий белья и просмотрела почту. Но еще никогда она не оставляла Чарли по вечерам, а тем более на целую ночь. Он-то, может, и готов, а она — нет.