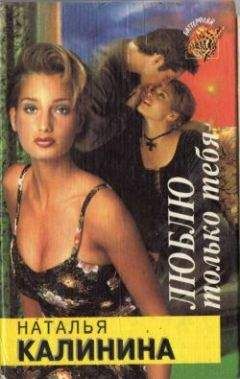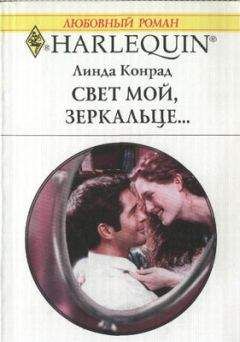В своих фантазиях он обладал самыми красивыми и сексапильными женщинами в мире. Они отдавались ему в романтичнейшей обстановке: на необитаемом острове, на пустынном пляже под рев прибоя, в широченной кровати средневекового замка, со всех сторон освещенной гроздьями свечей… Казалось, его фантазиям нет предела, и очень часто, погружаясь в них, он испытывал оргазм, при этом даже не прикасаясь к своим гениталиям. Оргазм обычно был очень сильным, и после него Эдвард долго лежал в своей узкой холостяцкой постели, не в силах пошевельнуться.
Утром, разглядывая себя во время бритья в зеркале, он обращал внимание на желтоватые круги под глазами. Эдвард знал, его коллеги по клинике уверены в том, что он проводит ночи в оргиях – об этом намекнул как-то за ленчем анестезиолог Кристофер Браун, картежник и ловелас.
– Хотел бы я хоть одним глазком взглянуть на твоих женщин, – сказал он и дружески подмигнул Эдварду. – Мне казалось, в Нью-Йорке даже у шлюх и тех темперамент улитки.
Эдвард поднял глаза от тарелки с овсяным пудингом и недоуменно посмотрел на Кристофера.
– Ладно, ладно, молчу. Просто многие наши девицы заводятся от твоей холодности, разумеется, объясняя ее не отсутствием у них обаяния, а твоей пресыщенностью женскими ласками. Да и видок у тебя другой раз бывает… гм… достойный восхищенной зависти.
Эдвард молча поглощал пудинг. Слова Кристофера его поразили. Он никогда не замечал, чтобы кто-то из женского медперсонала клиники проявлял к нему повышенное внимание. Разумеется, шутки и обмен любезностями в счет не шли – у них был дружный, отлично подобранный состав служащих. И все благодаря стараниям управляющего, который проводил много часов за изучением всесторонних данных нанимаемых на работу людей, будь то уборщик туалетов или нейрохирург.
Эдвард стал приглядываться к работающим с ним бок о бок девушкам, невольно сравнивая их с женщинами из своих фантазий. У одной из них были слишком толстые икры, другая часто морщила лоб, третья… Словом, они его совсем не возбуждали. Очевидно, это была какая-то аномалия, и Эдварду захотелось во всем разобраться самому, не прибегая к помощи психиатра, – ведь он сам до мозга костей был человеком науки.
Одно Эдвард знал о себе точно: гомосексуальных наклонностей у него нет. И это значительно облегчало его задачу познания собственного сексуального «я».
Ему не хотелось, чтобы коллеги по клинике знали о том, что он решил поставить над собой эксперимент, преследуя как научные, так и глубоко интимные цели, – ему казалось, это подпортит его имидж. Эдвард чрезвычайно дорожил своим имиджем талантливого нейрохирурга без каких-либо заметных комплексов, столь мешающих человеку отдаваться целиком и полностью любимому делу.
Американки, в особенности жительницы Нью-Йорка, казались ему стерильной расой, удовлетворяющей свои сексуальные потребности с помощью вибраторов. Разумеется, тому виной был еще и страх перед этим таинственным заболеванием, аббревиатура которого – AIDS[8] – напоминала Эварду рекламу известной фирмы по производству спортивных товаров. Искусственный член был столь же безопасен в этом отношении, как и его ночные фантазии. Но, как понимал Эдвард, и то и другое было всего лишь суррогатом.
Отец свалился как снег на голову. Отец – поджарый загорелый мужчина с веселым, немного дерзким взглядом был для Эдварда совершенно чужим человеком, к которому он не испытывал никаких чувств. Отец позвонил ему домой и, не пускаясь в длинные беседы, пригласил пообедать, как он выразился, «У Цезарей», то есть в ресторане «Двенадцать Цезарей».. Поколебавшись немного, Эдвард принял приглашение. Ему вдруг пришло в голову, что, возможно, взаимоотношения с этим человеком служат в какой-то степени причиной его, Эдварда, сексуальных аномалий. Он едва дождался условленной встречи.
– Как вы похожи! – воскликнула на ломаном английском спутница отца, молодая белокурая женщина с правильными чертами лица. – Нет, вы совершенно разные, – заявила она уже через пять минут. – «Волна и камень. Стихи и проза, лед и пламень…» – процитировала она по-русски, и отец перевел сыну, пояснив, что это пушкинские строки.
– Моя жена, твоя мамочка, – представил он женщину. – Не осуждай своего старого родителя за то, что он слишком любит жизнь, а следовательно, женщин. Она русская, и я вывез ее из Афгана в качестве военного трофея.
Вечер оказался на редкость веселым. Рассказы отца об афганской войне не то чтобы заинтересовали Эдварда, но расширили его представление о реальном мире, в котором, как выяснилось, кроме стерильных операционных палат, медицинских книг и прочих будничных дел, существуют холодные пустыни с выжженной дотла землей, вертолеты, плюющиеся смертоносным огнем, воины аллаха – моджахеды, стойко защищающие свое отечество. Нью-Йорк был скучным, цивилизованным до неприличия городом. Эдвард вдруг подумал о том, что его с детства окружала стерильность во всем, прежде всего – в чувствах. Не исключено, что это и есть одна из причин, если не главная, его сегодняшней сексуальной проблемы.
Когда принесли кофе, отец внезапно предложил:
– Поехали к нам. Если не ошибаюсь, у тебя завтра выходной.
Эдвард не раздумывая согласился. Женщина взяла его под руку.
– Ты мне нравишься, сыночек, – сказала она, склонив голову ему на плечо. – А тебе известно, что я беременна и у тебя скоро будет сестричка или братик? Правда, не по крови, но ведь это не имеет никакого значения, верно?
Отец широко улыбался. Он явно был доволен жизнью. Его квартира все еще напоминала холостяцкую берлогу, хотя в ней теперь стойко пахло «Poison».[9]
Они пили виски со льдом и содовой, курили, болтали, слушали оперные увертюры Моцарта и Россини.
Эдвард поймал себя на том, что давно, а возможно, и никогда, не чувствовал себя столь раскованно и непринужденно. Когда женщина за чем-то вышла, отец доверительно склонился к сыну:
– Вообще-то она мне не жена – я имею в виду физиологическую сторону. Понимаешь, мне кажется, нет у меня никакого права вторгаться в таинственную жизнь зреющего в ней ребенка. Если бы это был мой ребенок, другое дело. А главное, я в нее не влюблен.
Отец, как показалось Эдварду, виновато усмехнулся и стал задумчиво крутить между ладонями свой стакан. Льдинки весело позванивали о стекло.
И Эдвард вдруг понял, почему сегодня ему было так хорошо – эта женщина не принадлежит отцу, что он, по-видимому, ощутил подсознательно. Он вдруг захотел, чтобы она принадлежала ему, вместе с ребенком, растущим в недрах ее существа.
– Мне необходимо отлучиться, – сказал Анджей и ободряюще улыбнулся сыну. – Дело в том, что старые холостяки иногда любят собираться вместе и вспоминать свою романтическую юность. Ты не романтик и тебе этого не понять. – Анджей встал, надел пиджак, пригладил еще густые, лишь слегка тронутые сединой волосы. – Душенька, – обратился он по-русски к вернувшейся в гостиную женщине, – мой сын расскажет тебе кое-что, о чем напрочь позабыл я. Извини уж – склероз, мадам, склероз, как говорят у нас в России.