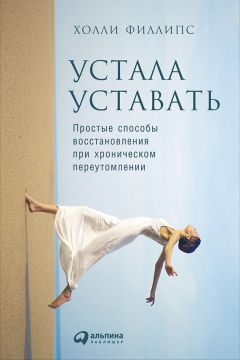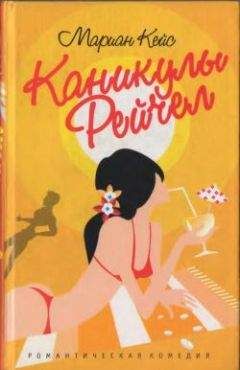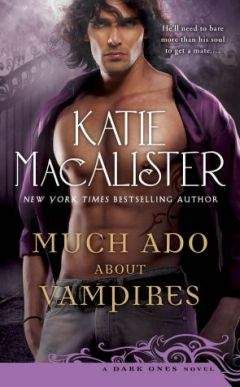Мама повернулась на своём месте у стола и посмотрела на меня точно ястреб. Она никогда не красилась, поэтому её глаза всегда выглядели точно бусины, а её оценивающий взгляд вызывал тревогу.
— Привет, — сказала она.
— Привет.
Тяжесть у меня в груди усилилась. Я немного переживала из-за своего выбора одежды и вообще из-за любого жизненного выбора, который мне приходилось делать.
Она вернулась к ужину и наклонила голову.
— Мне надо, чтобы ты накрыла на стол. Я просила твоего отца, но у него очень важное дело в другой комнате.
— Ты имеешь в виду, сон? — подразнила я. — Не беспокойся, мамочка. Какой смысл приезжать домой, если не заниматься тут домашними делами.
Не повернув головы и не придавая значения моей искренней честности, она фыркнула над своей кипящей едой.
— Он сегодня очень устал спать. Его дневного сна ему видимо не хватило. И я, знаешь ли, разбудила его, когда пылесосила, поэтому ему пришлось начать заново, когда я закончила. У этого мужчины нет стойкости.
— У него есть стойкость. Он женат на тебе уже тридцать лет.
Я давно уже не старалась оставаться в стороне родительских отношений. Это могло бы прозвучать странно для обычного человека, не любящего конфликты, но я сталкивалась с этим сложным уроком уже не один раз. Если я оставалась в стороне, это никогда не заканчивалось. Если я ввязывалась и начинала напоминать моим родителям, как сильно они любят друг друга, они прекращали конфликт, только затем, чтобы остановить меня.
Вот так я и поддерживала мир в семье.
Кто-то мог бы подумать, что это делало меня смелой, и что я могла ввязаться в любой конфликт или разобраться с критической ситуацией, или просто постоять за себя. Но, по правде говоря, имея дело с родителями всю мою жизнь, в любом конфликте я чувствовала себя неуютно.
Я даже хвалила себя за то, что у Веры и Ванна были прекрасные отношения. Я чувствовала себя ответственной за то, чтобы они любили друг друга.
Я не могла выносить их ссоры, когда мы были детьми. Я начинала истерично плакать, как только они начинали драться. И Ванн не то, чтобы очень заботился обо мне, он просто не любил, когда девочки плакали. Это был один из его самых больших страхов — плаксивые женщины. Поэтому он готов был сделать всё, что угодно, чтобы я прекратила — даже помириться со своей несносной сестрой.
Когда мы стали старше, Ванн всё меньше воспринимал меня как девушку и всё больше как сестру, и мои слёзы имели на него всё меньше и меньше влияния. Поэтому в наши подростковые годы я прекращала плакать и просто уходила. Мы могли быть посредине домашнего задания или кулинарного эксперимента Веры, но если атмосфера хоть немного накалялась, я собирала вещи и уходила.
Не ради них, ради себя.
Ссоры сводили меня с ума. И после прослушивания этого нескончаемого саундтрека у себя дома, я неплохо научилась останавливать их, разрешать конфликт или убегать от него.
— Он не может позволить себе развод, — проворчала мама.
— Мам, он знает, что я накрою на стол. Я это всегда делаю. И всегда буду делать.
Она проворчала что-то себе под нос и кинула на стол подставки под горячее, словно это были фрисби. В моей маме интересным образом сочетались решительная баба-гром, говорившая всё как есть, и праведная любительница нравоучений. На одном дыхании она задавала жару папе, или швыряла подставки под горячее, словно звезда фрисби, а потом читала мне нравоучения о том, что не надо жаловаться на босса или класть локти на стол.
Когда подставки были на месте, она опять повернулась к своей плите и что-то сердито пробормотала про папу и его дурацкое право на сон в любое время. Папа ещё даже не появился на кухне, а я уже знала, каким будет этот вечер. Если папа спал уже второй раз за сегодня, на то была причина.
Потому что в этом доме, если мама не была счастлива, никто не был счастлив до скончания века. Вот прямо до самого конца. Когда уже даже прошёл эпилог, благодарности и началось введение во вторую часть.
Я взяла три салфетки и начала складывать журавликов оригами, поместив каждого из них в центре наших старых тарелок. Обеденная зона в кухне была маленькая и несовременная, но каким-то образом она помогла уменьшить боль у меня в груди.
Мои родители были сложные и сердитые, и очень резкие, но забота обо мне для них была превыше всего. И я знала, что они любят друг друга. Даже если им было сложно признать это. Именно поэтому мои воспоминания интересным образом совмещали в себе тоску и любовь, плохие воспоминания всегда смешивались с прекрасными.
— Ты в курсе, что он опять потерял работу? — сказала мама громким шёпотом. — Опять, Молли.
Я уставилась на маму и потеряла способность говорить. Её напряжённые плечи и механические движения были красноречивее слов, которые она никогда не произнесла бы вслух. "Что нам теперь делать?"
Она никогда не задавала этот вопрос вслух, потому что она всегда знала ответ. Она всегда находила выход. Сама. Без чьей-либо помощи и без папы. Она бы экономила деньги и продолжала бы делать всё возможное, чтобы оплачивать счета и ставить еду на стол. Она делала бы то, что делала всегда — разгребала за папой его проблемы.
Мой папа никогда не задерживался долго на одном месте работы. И это было забавно, учитывая сколько раз его нанимали. Такова была особенность моего папы, у него не было проблем с поиском работы. Он просто не мог её сохранить. Люди любили его. Его боссы всегда сначала любили его. Я любила его. Он был бойкий, обаятельный и абсолютно безответственный.
И он был продавцом. Когда я была маленькая, он продавал машины. И ножи, и посуду, и даже страхование жизни одно время. Когда я была в средней школе, он пошёл искать клиентов в соседние районы и продавал крыши, потом заборы и в итоге водосточные трубы. В моей старшей школе у него была стабильная работа в офисе, и он продавал медицинское оборудование.
Мама и я искренне надеялись, что работа в офисе станет для него переломным моментом. Он даже носил галстук на работу и каждый день приходил домой, насвистывая.
Но то, что мешало отцу собраться, что бы это ни было, всё равно поднимало свою уродливую голову и возвращалось с новой силой. Когда он потерял работу в офисе, он так и не нашёл другую работу, пока я не окончила школу и не уехала из дома.
В последнее время он периодически находил временную работу в коммунальной службе, но он уже давно не был бодрым двадцатилетним юношей. Ручной труд давался ему тяжело в этом возрасте. Поэтому он его бросил, чтобы попробовать себя в продаже лодок.
Ему удалось продержаться восемь месяцев.
Сердце мое опустилось, как каменное. Я схватилась за грудь, где сейчас не было ничего кроме зияющей дыры.
— Он найдёт другую работу, мама, — уверила я её настойчивым шёпотом. — Он всегда находит.
Она не повернулась ко мне. Она даже не дрогнула.
— Хотя бы ты здесь больше не живёшь, — сказала она.
Я опять сосредоточилась на салфетках. Я не знала, что она имеет в виду. Может быть, она была рада, что мне не нужно выносить все эти тяготы, и видеть, как папа скатывается в депрессию, потому что он мучил себя за то, что не может сохранить работу, как большинство других людей. Либо она была рада, что одним ртом, который надо кормить, и человеком, за которым надо ухаживать, стало меньше. Может быть, она просто была рада, что у неё разрешилась одна из проблем.
— Если тебе нужна помощь, мама, я могу....
Её рука резко взмыла вверх и застыла как деревянная, оборвав мои слова.
— Нет, нам не нужна помощь. Особенно от нашей дочери. У тебя счета, и новая машина, поэтому даже не думай о нас. Это проблемы твоего отца. Пусть сам решает, что мы будем делать.
Дыра у меня в груди стала шире, трещины поползли по всему моему телу до самых пяток, словно это была какая-то болезнь.
— Ну, тогда дай мне знать, если я могу помочь, — сказала я упрямо. — Вы всю жизнь обо мне заботились, мне важно иметь возможность помогать вам.