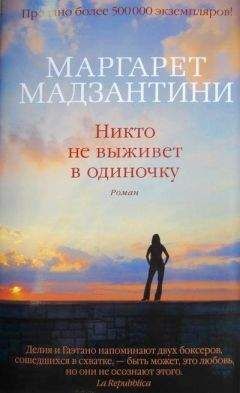Я рассматриваю детали: чья-то рука, темное пятно — птица в небе, бампер автомобиля отлетел на обочину. Смотрю на Себину: круглые глаза-пуговицы, тонкие губы с утолщением по центру — яркий смешной рот. Узнаю это выражение лица — атаманша, гроза района — и не могу сдержать улыбку.
— Иди-ка сюда, Bijeli Biber.
Так я звала ее, Белый Перец…
Она подходила — глаза опущены, маленькая ямочка на подбородке, такая круглая, что, кажется, там должна лежать жемчужина. Я сжимала в кулаке леденец, протягивала обе руки — она всегда отгадывала, в какой конфета.
— Bijeli Biber, тебе учиться надо, понятно?
Она кивала и стремилась поскорее удрать. Я советовала Гойко присматривать за ней, говорила, что улица ее испортит.
— Кем она вырастет, если не будет учиться?
Гойко находил шалости сестры милыми и очаровательными.
— Артисткой. Она умеет кататься на коньках, ходить по канату… и врать.
Иногда она бывала ужасно грубой, не здоровалась, упрямо играла с какими-то громыхающими шарами, которыми после йо-йо безуспешно пытался торговать брат. Никто не понимал причины ее плохого настроения. Однако мне удавалось докопаться до сути. Повод для грусти всегда оказывался смешным, пустяковым, нелепым… но я понимала ее. Точно так же, как и Себина, в детстве я была ужасной перфекционисткой, вечно недовольной собой.
Она вела себя резко, даже нагло. Убегала во двор, сидела, прислонившись к стене, посасывала кончики волос, грубила всем, кто к ней подходил. «Эй, Белый Перец», — прижимала я ее к себе. Как будто снова ощущала собственную раздутую гордость, ясно видела наименее привлекательную часть себя самой. Мне казалось в детстве, что из-за этих острых углов никто и никогда не сможет по-настоящему полюбить меня. То же самое испытывала и Себина — то же ощущение одиночества. Высокомерные дурочки — что она, что я. Девочка обнимала меня за шею, и я несла ее домой, к маме. Ноги Себины свешивались до самых ступенек. Все прошло, грусть рассеялась. По правде говоря, я никогда не возилась с детьми, у меня не хватало терпения, я не умела сюсюкать. Но Себина — особый случай. Она была дарована мне Богом как предвестие любви. Я снова вижу этот лестничный пролет, площадку между этажами, на которой останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. В узком длинном окне — серый двор в сумерках… ее руки на моей шее, ее теплое дыхание, ее тайна.
Пьетро остановился за колонной:
— А эта, ма?
Рядом с выходом — фотография, которую я не заметила.
— Эта тоже Диего?
Отвечаю, что не уверена…
— Здесь внизу его имя.
Странная фотография, размытая, с трещинами. Может быть, кусок стены с темным пятном, вокруг которого — красные рваные лепестки… наподобие розы.
— Что это?
— Не знаю.
Пьетро нравится эта фотография, он долго рассматривает ее.
— Непонятно, что это, но классно!
Он считает, это могла бы быть крутая обложка для CD-диска.
А для меня это — осязаемая боль. Ее странная материализация. Мне кажется, что в этом красном пятне ощущение войны сильнее, чем в других фотографиях.
Протягиваю руку, чтобы дотронуться до зернистого отпечатка:
— По-моему, это сделал не папа, они ошиблись.
Диего появился в Риме рано утром. Только он был способен проехать на мотоцикле пятьсот километров. Всю ночь летел по автостраде, обгонял в слепящем свете фар одну за другой большегрузные фуры, не останавливался ни на минуту. Позвонил нам в домофон, в руках букет подсолнухов, купленных в круглосуточном цветочном магазине. Я вышла на улицу в ночной рубашке, брезжил рассвет, жалюзи соседнего бара были еще опущены.
— Ну, вот я и собрался!
Беру у него подсолнухи, они плетьми повисли в моих скрещенных на груди руках. Я смущена, рассержена — только вчера я вернулась из Генуи, даже сумку не успела разобрать, и вот, пожалуйста, он уже здесь — волосы примяты шлемом, красные от ветра щеки.
— Я не могу пригласить тебя, ты же в курсе. Я ушла от мужа совсем недавно, представь, что скажут мои, если я приведу в дом другого мужчину…
— А где этот другой мужчина? — Диего оглядывается по сторонам. Улыбается. — Не волнуйся, мне есть где остановиться.
Ему показалось, что меня нельзя оставлять одну в такой сложный период. Лицо невинного ягненка, а глаза смеются. Даю ему пинка, он хохочет, больно мне самой: у меня на ногах вьетнамки, а на нем — жесткие мотоциклетные штаны. Он глядит вверх, машет кому-то рукой. Я поднимаю голову и вижу, что на балкон вышел папа, он в пижаме, курит. Папа тоже машет Диего, в руке сигарета.
— Здравствуйте! — кричит снизу Диего.
— Здравствуйте, — отвечает папа.
— Это я, Диего.
— Армандо. Папа. Как дорога?
— Ничего, ровная.
Я знаками велю отцу уйти, вернуться в дом. Но он спускается вниз, в пижаме и тапках, которые я подарила ему на день рождения, подходит к нам. Они пожимают друг другу руки. Папа рассматривает мотоцикл:
— Ого! «Триумф Бонневиль Сильвер Джубили», прекрасный выбор.
Позднее я узнала, что они за время моего замужества успели несколько раз поговорить по телефону. Обо мне, о фотографии, о путешествиях. Уже тогда они почувствовали взаимную симпатию. Вот сейчас стоят друг против друга, и сразу понятно, что станут приятелями. Что еще одна любовь зародится на этой заре. Странная штука жизнь. Хотя, может быть, в этом нет ничего странного — Диего очень рано потерял отца, а мой папа всегда мечтал о сыне. К зятю, моему мужу, папа никогда не испытывал теплых чувств.
Диего спрашивает отца, не хочет ли тот прокатиться на мотоцикле. Папа готов, застегивает пуговицы пальто, наброшенного на пижаму, но под моим испепеляющим взглядом смущается, бормочет: «Ничего, попробую в другой раз, когда буду лучше одет».
Папа предлагает зайти в бар, который тем временем открылся. Мы переходим дорогу, отец так и идет, в пижаме и в тапочках. Ждем, когда бармен разложит круассаны и включит кофеварку. Диего проголодался в дороге, ест с аппетитом. Папа пьет кофе, выкуривает еще одну сигарету. Мы стоим за высоким столом, смотрим в окно, на дорогу, на первые шаги нового дня.
— Замечательно… — говорит отец.
— Ты о чем, папа?
— Замечательно, когда что-то начинается.
— Далеко еще?
— Это где-то внизу, на реке.
Мы бродим по задворкам рынка. У Диего в руках мятый листок с адресом и связка ключей. Спускаемся по ступеням из травертина, ведущим к дамбе среди кочек мха и пустых бутылок. У реки холодно, ноги скользят по сырой земле. Мутно-желтая вода плещется вокруг зеленых островков, покачивает прибитый к берегу мусор. Здесь не слышны звуки городской суеты, только плеск воды да хриплые крики чаек. Я оглядываюсь по сторонам, но ничего не вижу.