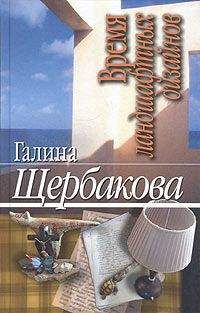Я заученно, чувствуя некрасивость собственных слов и ненавидя себя за это, объясняю ситуацию.
– Понятно, – отвечает бабушка. – Поняли, почем фунт лиха? Дети – это только говорится: счастье. Они ведь, сволочи, вырастают. Но вот что я вам скажу. Ни в какую эдакую школу девчонка не пойдет. Пойдет в обычную школу, будет нянчить братца. У детей греха должно быть трудное детство. Чтоб отслужить за все.
Я как-то странно улавливаю подводное течение ее слов. Она мне сейчас будет рисовать картину страданий Алиски, и я понимаю: это трюк, ее способ спасения от сваливающихся на нее неожиданных проблем, но понимание игры не мешает мне страдать от ее слов, мучиться сознанием собственной вины и бессилия. В комнату входит невестка, с виду едва восьмиклассница, на руках кулечек.
– С вами теперь, – говорит бабушка, – будет спать Алиска, нам ее возвращают.
– Здрасте! – кричит «восьмиклассница». – На голове что ли?
– У вас большая комната, а у нас с дедом – семь квадратов. Воздуха не хватает.
– Пердели ли бы меньше! – кричит невестка. Кулечек выгибается в руках, краснеет и подает пронзительный голос.
– Но у Алисы есть квартира, – говорю я то, о чем сама забыла, – квартира Тани.
– Это что еще за квартира? – восклицает кормящая «восьмиклассница».
По лицу бабушки видно, как она всполошилась.
– И что? – кричит она. – Что с того? В ней люди живут.
– Какие люди? – спрашиваю я.
– Не ваше это дело! – кричит бабушка. – Вы нам никто! Езжайте в вашу заграницу и возвращайте девочку. И не интригуйте тут! Квартира действительно Алисина. Так что не вам давать указания. Тоже мне нашлась!
Я понимаю, что меня напоследок оскорбили и, считай, выставили, но каменно-холодное во мне «не хочу знать» и «не буду в этом стоять» дают мне возможность идти к двери даже как бы гордо. Уже на пороге мой язык произносит неожиданную фразу.
– Я все-таки отведу Алису в ее школу. Она по ней соскучилась. Я оплатила уже полугодие. – Дальше была уже скорость, которую не могли догнать несущиеся вслед слова, они были отвратительные, но они меня не задели, потому что я уже была не я.
Я поняла, что никуда не еду, что слова, которые я произнесла – «я выхожу замуж», были ложью, и Танькина мать, женщина, видавшая виды в этой жизни, раскусила меня на раз. Поцелуи и скольжение по кухонному столу – это одно, а к судьбе девчонки их не пришьешь. Я, как истинно русский человек, совершаю гнусность и вру, вру, вру.
Я вспоминаю, как надолго Игорь уже исчезал и не давал о себе знать. С чего это я решила, что на этот раз будет иначе? Я отведу девочку в школу, буду жить, как жила, и посмотрю, что будет дальше. Будут ли от него вести? Как-то легко поселилась мысль, что ничего не будет.
…Собственно, так и было. Давно знаю: только многообразие непредвиденных обстоятельств и неожиданных людей – то, что мы называем «текучкой жизни» – спасает от топи тоски и жалости к себе самой. Быть в круговерти жизни и быть одновременно одиноко несчастной не получается. Все равно что-то тебя зацепит и поставит мордой к обстоятельствам, которые тебе на дух не нужны, но они-то, обстоятельства, не знают, что они некстати, поэтому выживай и трепыхайся, дорогая, как хочешь, как умеешь.
На этот раз на голову свалилась кузина Кузина. Она – мамина двоюродная сестра, кузина, так сказать, с маленькой буквы, с фамилией Кузина – с большой. Одинокая старуха из деревни Костромской губернии. Бобылка, всю жизнь живущая своим подворьем, в колхозе была учетчицей, считалась девкой с придурью, на досуге слегка ворожила, лечила лягушачьей шкурой и заговаривала зубы в момент зорьки. В Москву приезжала за одеждой, навещала нас с банками солений и варений. Мама стеснялась ее больших босых ног, на которых не находилось в доме тапочек. Кузину напрягал папа – его поведение и ритуальное ухаживание типа «подать-принять» за столом, ее просто парализовала подвинутая к ней солонка. Кузина путалась, терялась, я давилась смехом, кончалось тем, что она уже к ночи дня приезда начинала собираться уезжать, и ничто ее не могло остановить. Уходила со своими оклунками, категорически не принимая папино провожание. И всю ночь сидела на вокзале, ожидая утреннюю электричку. Каждый раз после этого мама объясняла, что отец кузины был пьющий и девочка родилась нежильцом, но выжила. «Как видите, со странностями, даже семилетку не кончила».
– Ну и к чему это ты? – сердился папа.
– В нашей стране было всеобщее и обязательное среднее образование. Ты об этом забыл?
– Обязательное среднее было много позже.
– Вечерние были всегда!
Папа тушуется от бесспорных заявлений мамы. Конечно, было вечернее и всеобщее, но тетя-то была отдельной! По маме, быть отдельным – значит быть чуждым эгоистом иди идиотом со справкой. Еще мама почему-то вспоминала отвратительное слово «брошенка». Почему-то я боялась этого слова. Я его видела. Живым. Больное, жестокое – и примеряла на себя. Когда-то, когда-то маленькую кузину взяли и выбросили. Ее родня была раскулачена, а когда их в начале тридцатых угоняли по этапу, мать выбросила двухлетнюю дочь с телеги во двор учителей. Те подобрали, но испугались уже своей беды и бросили ее одинокой старухе, которая ходила в дурочках. Дальше – больше. Девчонку перекидывали из семьи в семью, потом увезли в приют, откуда она бежала чуть ли не в шесть лет и вернулась в родительский двор, где жили другие люди. И была там жалостливая хозяйка, которая не стала больше гнать запуганное и завшивленное дитя, а приспособила пасти коз и собирать колючий крыжовник.
Мама стеснялась этой истории, потому что быть родней раскулаченных считалось стыдным. Но все-таки кузину как-то нашли и забрали поближе к Москве, где жили какие-то знакомые знакомых. Но девочка уже была большая для школы, так и жила полуграмотной, чуток читала, чуток писала, глядя на других детей. Папа ее жалел, я боялась, мама стыдилась.
Вот кто к нам приехал в недобрый час.
У кузины были огромные стопы, тяжелая каменная пятка и слегка растопыренные кривоватые пальцы с хорошо ороговевшими ногтями. Последний раз она приезжала к нам после путча. Опять привезла даров – вы ж тут, небось, голодом сидите – и опять ушла в ночь. Мы с Мишкой как раз были у родителей, она разглядывала Мишку внимательно в первый раз, а потом сказала мне: «Детишки пойдут, не гребуй деревней. Вози дышать. Как вы тут керосином живете, диву даюсь». Мне было немножко неловко, но и приятно, что о моих, еще не родившихся детях уже кто-то беспокоится.
И вот я прихожу домой после посещения Танькиной семьи, мне тошно и противно, я не чувствую себя уверенной в правильности поведения и разговора, я поглощена своим открытием – никакого «замужа» у меня не будет, Игорь во второй раз кинул меня, но теперь уже – на произвол судьбы. Вот на этом месте – произвол судьбы – вдруг сообщение мамы.