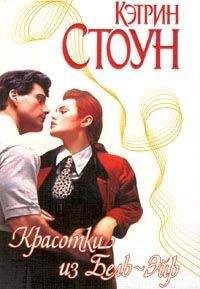Пока они с Отей завтракали, Ада с Леной успели уехать. Сергей с удовольствием показал ей дом, демонстрируя по пути функциональные штучки и особые приспособления каждого предмета, призванного обеспечить полнейший домашний комфорт. И проделал он это с такой гордо-забавной снисходительностью, словно и был здесь главным всего хозяином. Таня к концу экскурсии уж и удивляться перестала — все в голове смешалось в одну кучу. Потом они с Отей пошли гулять, и долго расхаживали по белым дорожкам меж квадратных кустов и круглых деревьев, и бегали по зеленой траве, и даже бассейн обнаружили за домом, но без воды. Усадьба была совсем небольшой, гораздо меньше по размеру, чем показалось ей ночью, — при лунном свете всегда окружающее человека пространство кажется более значительным и объемным. А потом они обедали привезенной в судках едой — ничего особенного, протертый суп да отбивные котлеты с овощным гарниром. Таня решила было и сыру французского хваленого отведать для полного счастья, и уж баночку открыла, да тут же от нее нос и отдернула — вонью понесло из той баночки несусветной. Испортился, наверное. Хотя обедавший вместе с ними Сергей ее обсмеял, пояснив, что она в этом деле ничегошеньки не понимает. Что сыр, мол, это французский, специальный такой, камамбер называется, и он запашистый такой и есть. И чем противнее запах, тем дороже и стоит. Таня улыбнулась понимающе, но все ж ему не поверила. И коробочку с сыром на всякий случай отодвинула от себя подальше. Где ж это видано — такую вонь в себя принимать за здорово живешь, да еще и за деньги! Нет уж. Пусть сами свою тухлятину едят да хвалят, их дело. А она поостережется пока, даже и на язык пробовать не будет. Может, потом, когда уж попривыкнет к здешним вкусам. А после обеда они с Отей уснули на Танином диване мертвецким сном — короткая ночь дала о себе знать…
Проснулась Таня первая. Отя посапывал мирно под боком, сложив пухлые ручки перед собой, ладошка к ладошке, словно в молитве. Осторожно, чтоб его не разбудить, она села на диване, прислушалась. В комнату проникали далекие голоса. И не голоса даже, а крики яростные. Кто-то ругался в доме, и, похоже, очень сильно ругался. Таня напряглась и вся обратилась в слух — отчего-то тревожно стало на душе, будто предчувствие какое нехорошее пробежало дрожью, сдавило спазмом горло. Она вообще с трудом переносила выплески чужих скандалов — всегда хотелось отойти в сторонку или прижаться вовремя к стеночке — пусть мимо проскочит…
Встав, она на цыпочках подкралась к двери, еще раз прислушалась. Потом повернула ручку, вышла в коридор, встала изваянием у лестницы, ведущей вниз, на первый этаж, в большую нарядную гостиную…
— Мама, ну я же не идиотка, в конце концов, я все прекрасно понимаю! Ну да, она ребенка спасла, кинулась на него своим телом… Но это же не значит, что надо теперь около себя ее держать! Есть же другие способы выражения благодарности, в конце концов!
— Да дура ты безмозглая, Ленка, вот что я тебе скажу! И всегда дурой была! Ты что, не видишь, что девчонка эта искренне к Матвею привязана? Да ты же заботы о ребенке знать не будешь! Я ж как лучше хотела, для тебя же лучше…
— А не надо ничего за меня хотеть, мамочка! Хватит уже! Ты всю жизнь только к тому и стремилась, чтоб в нашей с Костиком жизни пошуровать вволю! Нет уж, хватит! Я сама знаю, чего мне хотеть, а чего не хотеть!
— Ой, да на здоровье, дочь… Речь вообще сейчас не о тебе, а о сыне Костином…
Они вдруг замолчали обе, заставив и без того похолодевшую Таню задержать дыхание на вдохе. И сразу после коротенькой паузы Лена продолжила, резко снизив голос до некоторого даже писклявого заискивания:
— Ну, мам… Ну, мамочка… Ну пойми ты, не нужна она мне там! Ты только представь, какие к нам в Ницце люди в дом приходят! Сплошная богема! И что мне, в шкаф эту деревню прятать прикажешь? Да она и вести-то себя толком не умеет, еще и ляпнет чего-нибудь…
— Да пусть ляпает, тебе-то что? Все равно твоя богема ни хрена по-русски не понимает… Да и не будет ее скоро. Как узнает твой Анри, что содержать тебя больше некому, так и сделает ноги. Вот увидишь. Альфонс, он и есть альфонс, даром что художником себя называет…
— Мама, прекрати! — снова истерически вскрикнула Лена.
Таня вздрогнула всем телом и дернулась было назад с перепугу, но вовремя остановилась, словно решила мазохистски дотерпеть до конца весь этот ужас.
— Что, что я должна прекратить? — нисколько не уступила дочери в накале истерики Ада. — Или ты на наследство Костино надеешься? Так оно все до копеечки сыну его перейдет! А у тебя, как у его опекунши, слишком руки коротки, чтоб в самую сердцевину залезть! Никто этого тебе не даст, учти…
— Да не твое дело, мамочка! Раз решила опекунство на меня оформить, значит, решила! И не лезь больше со своими советами! Я тебя просила сюда эту идиотку вызывать? Нет, не просила. Я запросто и сама могла за Матвеем смотаться. Да ты посмотри, посмотри на нее, это же ужас тихий! Ископаемое просто! Деревня! Подруга Шарикова! Харя круглая, сама неухоженная, ногти под корень подстрижены… Позор какой-то…
— Да сама ты позор… — тихо и грустно выдохнула Ада. — Сама-то какая была, пока Костик тебе хорошую жизнь не обеспечил? Лучше, что ли? А ногти у нее потому так подстрижены, что иначе ей нельзя. Она операционной сестрой в больнице работает…
— Ой, да пусть она там хоть помощником президента работает, мама! Не надо мне ее, и все тут! Как будто я в Ницце гувернантку не найду, господи…
— Найдешь. Конечно, найдешь. И не одну. А вот такую, чтоб к Матвею привязана была искренне да чтоб любила, как своего собственного…
— Ладно, мама, хватит. Кончим этот разговор. И вообще — уж тебе ли про любовь к детям толковать?
— Ленка! Ну за что ты со мной так? — страдальчески, с надрывным хрипом выкрикнула Ада. — Я вас всегда любила, и тебя, и Костика! Как умела, так и любила! И внука своего я люблю! По крайней мере, беспокоюсь о том, чтоб хоть кто-то любил его по-настоящему, раз сама как следует не умею…
— Вот именно. Не умеешь. Ладно, мама, будем считать, что вызов сюда этой няньки — твой каприз. Я ему следовать не обязана. Сама теперь со всем этим расхлебывайся.
— Но погоди, Ленка… Как это — сама? Она ведь все равно уже здесь. Ну, устрой ей испытательный срок, и сама увидишь…
Дальше слушать их разговор Таня уже не смогла. Сил не было. К тому же слезы, старательно ею проглатываемые, скопились твердой пробкой в груди — дышать стало нечем. Потому и заставила себя развернуться и, деревянно держа спину, тихо промаршировать в свою комнату. Закрыв за собой дверь, медленно сползла по ней спиной, села на пол, подтянув к себе круглые коленки. Отя по-прежнему спал, легко и сладко посапывая, улыбался во сне лукаво. Она долго смотрела на спящего своего нечаянного приемыша, ничего не чувствуя внутри — ни обиды, ни боли. Будто подморозило все. А может, и не умела ничего такого чувствовать. Опыта у нее подобного не сложилось — обижаться на кого-то. На нее, на обиду, надо ж порядочные силы в себе изыскивать да в злость праведную их запрягать, как коней в узду. А ей всегда почему-то жалко их было на пустяки тратить, силы-то. Они и для других дел пригодиться могут. Для радости какой, например. Да и способ хороший против всякого рода обидчиков она знала — надо просто улыбнуться во все лицо, чтоб по-настоящему, чтобы без хитрости-обману, так улыбнуться, чтоб даже легким ветром с лица подуло навстречу обидчику! И все. И нет больше обидчика, а есть просто сердитый человек. И пусть он будет себе сердитый. Может, у него горе какое…