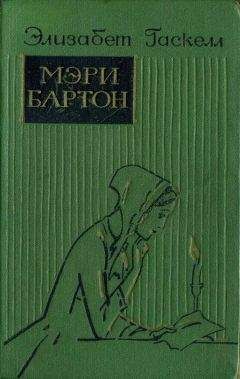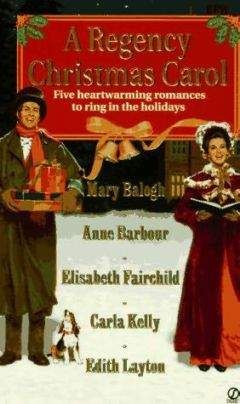Нужна была немалая смелость и проницательность, чтобы в ту пору отнестись таким образом к взглядам чартистов, которых буржуазная пресса поносила как опасных преступников и злодеев.
Мы не найдем в «Мэри Бартон» точной характеристики политической программы чартизма, да этого и нельзя было бы ждать от Гаскелл. Но реализм писательницы проявляется не только в правдивом изображении ужасающих бедствий пролетариата, но и в стремлении воздать должное нравственным достоинствам рабочих-революционеров, наперекор клевете и насмешкам, которые извергала на них буржуазная печать. Гаскелл пишет о ясном уме Джона Бартона, о его энергии, организаторском таланте, о его «грубом ланкаширском красноречии», покорявшем рабочих, чьи чувства он умел «облечь в слова». И как самое главное, она подчеркивает глубочайшее бескорыстие своего героя-чартиста: «…все с ним соприкасавшиеся чувствовали, насколько бескорыстны его побуждения. Он отстаивал интересы своего класса, своего общества, а вовсе не собственные права».
Нельзя не почувствовать даже теперь, по прошествии целого столетия, полемического, антибуржуазного смысла этих слов, как и всех тех многочисленных эпизодов романа, где Гаскелл приводит живые примеры самоотверженной солидарности рабочих. Иронизируя над теми, кто возмущается пороками бедноты, она призывает читателей, напротив, преклониться перед героизмом тружеников. Рабочие, провозглашает она, совершают в своем единении не менее благородные подвиги, чем самые прославленные рыцари прежних времен. Готовность к самопожертвованию, отзывчивость, дружелюбие, доброта Бартона не раз проявляются в романе, прежде чем он предстает перед нами в роли террориста, убивающего по тайному приговору рабочих ненавистного им фабриканта Карсона.
В изображении этого террористического акта писательница была близка к жизни. В «Положении рабочего класса в Англии» Энгельс писал, что «в периоды особенного возбуждения» на протяжении 30-40-х годов рабочим союзам случалось предпринимать – «с ведома или без ведома руководителей – отдельные действия, которые можно объяснить только ненавистью, доведенной до отчаяния, дикой страстью, переходящей всякие границы» [4]. В числе подобных актов классовой мести – нападений на штрейкбрехеров, поджогов и взрывов на предприятиях – Энгельс приводит и случай убийства фабриканта, представляющий непосредственную аналогию судьбе Гарри Карсона, застреленного Джоном Бартоном: «Однажды вечером, во время сильных волнений среди рабочих в 1831 г., в поле был застрелен молодой Аштон, фабрикант из Хайда близ Манчестера; убийца остался необнаруженным. Нет никакого сомнения в том, что это являлось актом мести со стороны рабочих» [5].
Биографы Гаскелл рассказывают, что сестра убитого Аштона (упомянутого Энгельсом) упала в обморок, когда, читая роман «Мэри Бартон», дошла до сцены гибели молодого Карсона: так схоже было событие, изображенное автором этой книги, с подлинной историей ее брата. Но правдивость образа Джона Бартона определяется, конечно, не только этой жизненной достоверностью отдельных подробностей. Показывая, как сформировался в жестокой школе страданий и борьбы этот суровый, глубокий и цельный характер, Гаскелл уловила важные действительные закономерности духовного и политического возмужания рабочего класса Англии в период чартизма.
В сюжете романа начало личное, семейное неразрывно сплетается с началом общественно-историческим. Гаскелл при этом проявила и редкий художественный такт, и социальное чутье, наотрез отказавшись вносить в мотивировку убийства Карсона какие-либо субъективные, эгоистические побуждения. Ей было бы легко построить сюжет так, чтобы драматическая катастрофа – убийство Карсона – была результатом ревности его соперника, Джема Уилсона, или же личного озлобления Бартона, мстящего обидчику дочери. Многие тогдашние читатели и читательницы гораздо охотнее «проглотили» бы этот эпизод, будь он сервирован им под таким сентиментально-патетическим соусом. Гаскелл избежала этой пошлости и фальши: в ее романе Джон Бартон даже и не подозревает, что молодой фабрикант, которого ему предстоит убить, посягает на честь Мэри; а Джем Уилсон, знающий об этом и пылающий ревностью и злобой, неповинен в свершающемся убийстве.
Писательница отступает от реалистической мотивировки характеров и событий только после этого вершинного пункта романа, отступает именно в том, что касается изображения дальнейшей судьбы Джона Бартона. Современный читатель не сможет не почувствовать особенно резко разительный контраст между суровой социально-исторической правдивостью, преобладающей в повествовании Гаскелл вплоть до эпизода гибели молодого Карсона включительно, и теми навязчивыми дидактическими христнанско-примирительными мотивами, под знаком которых излагается история духовного краха, мучительного раскаяния и безвременной смерти, какими Джон Бартон якобы расплачивается за совершенное им убийство. В изображении нравственного банкротства этого рабочего вожака, который отказывается на смертном одре от суровой непреклонности и непримиримости, каким научила его жизнь, и смиренно обнимает как «брата во Христе» отца своей жертвы, ярого врага рабочих, фабриканта Карсона-старшего, Гаскелл-пасторша берет верх над Гаскелл-реалисткой.
Проповедь христианского примирения враждующих классов, которой писательница попыталась закончить свой роман, с необычайной для того времени силой и выразительностью показавший разделяющую эти классы бездну, никого не убедила. Консервативная пресса выступила сомкнутым строем против «Мэри Бартон», как опасной, зловредной книги. Автора (чье имя долгое время оставалось неизвестным) обвиняли в незнании политической экономии, в предвзятости, в намерении внушить беднякам «фатально ложное представление» об ответственности капитализма за их бедствия. Особенно велико было возмущение местных, манчестерских, капиталистов: их газета «Манчестер гардиен» усматривала в «Мэри Бартон» непростительное проявление «болезненной чувствительности к положению фабричных рабочих, вошедшей в моду за последнее время».
Роман, однако, был значителен не только сочувствием, с каким Элизабет Гаскелл воспроизвела ужасающие бедствия английских тружеников на рубеже «голодных сороковых годов». «Не хватало только Данте, чтобы описать их страдания», – лаконично замечает она. Но важно было и то, что в людях, находящихся в последних кругах, на самом дне этого нового, индустриально-капиталистического ада, она сумела распознать черты подлинно человеческого благородства и достоинства, которые вызвали в ней глубокое уважение.