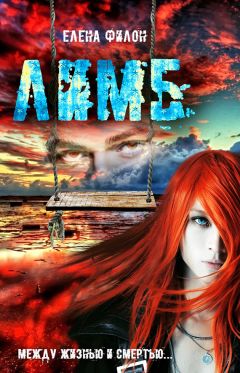Он надел пуловер, связанный из серых грубых ниток. Пуловер напоминал кольчугу, он сползал то с правого, то с левого плеча, и из-за этого в длинной, обвязанной желтой шерстяной буддистской ниточкой Игоревой шее было что-то такое же беспомощное, как и в его очках. И, как очки, пуловер тоже был дорогой, из какого-то элитного бутика, для которого Игорь делал сайт примерно полгода назад. Впрочем, для того, чтобы отличить этот элитный пуловер от обыкновенного самовяза, требовался очень наметанный глаз.
– Давно ты пришла? – Игорь улыбнулся, снял очки и протер их рукавом.
Не отвечая, Полина пожала плечами. Ничуть не смутившись ее молчанием – точнее, не заметив его, – он сказал:
– Что-то есть хочется. Ты ела?
– Я не ела. Но мне не хочется, – наконец ответила она и опять замолчала, ожидая продолжения.
– Может, в холодильнике посмотришь? – снова улыбнулся Игорь. – Кажется, капуста была…
– А ты что, в иудаизм перешел, шаббат справляешь? – не выдержала Полина. – Сам не можешь холодильник открыть?
Сколько угодно времени могло пройти – три дня, три месяца, три года, – Игорь оставался неизменным. Ничему не удивлялся, ничем не возмущался, ни на чьи посторонние желания-нежелания не реагировал. Сколько раз она давала себе зарок не заводиться, и вот пожалуйста, все равно завелась с пол-оборота!
Он послушно встал, открыл холодильник. На средней полке сиротливо лежал кочан капусты и стояла бутылка подсолнечного масла.
– Ладно, пожарю, – вздохнула Полина; что толку было на него злиться! – Зря, что ли, ты вещи мои оберегал? В камере хранения и то платить надо.
Готовить она умела не особенно, но имевшиеся в наличии продукты и не предполагали ничего изощренного. Как и Игорев непритязательный вкус.
– На Кузнецком Мосту новый ресторан открылся, – сообщил он, посыпая жареную капусту какой-то красно-желтой индийской приправой. Полина чихнула. – Вегетарианский. Я на открытии был – хорошо готовят. Морковные пирожные вкусные. Такие, знаешь, как будто в фольгу завернутые, но фольга тоже съедобная.
– Для буддистских кроликов? – поинтересовалась Полина.
– Зачем ты злишься? – пожал плечами Игорь. – Сама ведь пришла.
– Я за вещами пришла, – отрезала она. – Это ты меня в семейный ужин втравил.
Она смотрела на него, жующего жареную капусту, и пыталась вспомнить: с какого дня, с какого хотя бы месяца того года, который они прожили вместе, он стал ее так раздражать? И не могла вспомнить. А главное, не могла связать нынешнее свое раздражение с тем днем, когда увидела Игоря впервые.
На этюды Полина поехала этим летом как-то по инерции. Просто она лет с пятнадцати привыкла ездить на этюды, и даже родители давно смирились с тем, что их младшая дочь исчезает на месяц, а то и на дольше с какими-то никому не известными людьми. Да и, в конце концов, что могли возразить родители? Дочка училась в художественной школе, потом в Строгановское поступила, и вообще, хоть она и рисует как-то, на их простой вкус, странно, но ведь ее работы даже на взрослые выставки берут. А на этюды все художники ездят, ничего не поделаешь, приходится отпускать…
Примерно так рассуждала мама, и примерно это она говорила, когда Ева, старшая сестра, удивлялась родительской снисходительности.
Ева не столько удивлялась, сколько обижалась немножко. Ей было двадцать восемь лет, когда Полинке исполнилось пятнадцать, и ей действительно было непонятно, почему мама начинает нервничать, когда старшая дочь, взрослый человек, к тому же учительница, задерживается на час после работы и почему остается совершенно спокойной, когда младшая пропадает все лето где-нибудь на мысе Казантип, скитаясь по степям «как Велимир Хлебников».
Впрочем, этому только Ева могла удивляться, потому что не видела себя со стороны. А всякому другому человеку все становилось понятно, когда он заглядывал в Евины глаза. Невозможно было не заметить, какая трепетная, странная, беззащитная жизнь стоит в них, словно в глубокой воде. И за Еву сразу же становилось страшно: как жить на свете с такими глазами?..
Ну а Полинкины глаза – папины, чуть раскосые, похожие на черные виноградины, так и стреляющие из-под длинной рыжей челки то с веселым любопытством, то с ехидной насмешкой, – ни у кого никакой тревоги не вызывали. Наоборот, все Гриневы с самого ее детства знали: уж кто-кто, а Полинка и за словом в карман не полезет, и сумеет за себя постоять – за свое право рисовать так, как она хочет, и так, как хочет, жить.
В общем, на этюды она ездила каждое лето, поехала и после первого курса Строгановки. По инерции поехала, потому что все для себя она уже решила…
На этюдах, как всегда, было довольно весело. Все они были молоды, полны сил, честолюбивых планов и решимости что-то доказать миру в целом и каждому из десяти собравшихся вместе художников в частности. А деревня Махра, куда они приехали в самом начале июня, словно отделила их от окружающего мира, предоставив доказывать друг другу все, что угодно.
Поселились они, правда, не в самой деревне – длинной, пыльной и какой-то бестолковой, – а в заброшенном пансионате на противоположном от Махры берегу реки Молокчи. При советской власти пансионат принадлежал, как говорили, влиятельной газете, но теперь никому до него не было дела, и десять деревянных домиков тихо ветшали на просторном холме под соснами. Наверное, когда-нибудь нынешние владельцы пансионата должны были бы спохватиться и взяться за благоустройство своей собственности, но пока всей этой неразберихой, бесхозностью и живописной заброшенностью пользовались художники.
Крыльцо, широкое и высокое, как лестница барской усадьбы, угрожающе скрипело и покачивалось даже под невесомой Полиной, которая первая выбралась на него утром. Настроение у нее было отличное, несмотря на выпитое вечером неимоверное количество настойки с красивым названием «Рябина на коньяке». Рябина в настойке, приобретенной в махринском сельмаге, вроде бы присутствовала, а вот коньяк вызывал большие сомнения. Во всяком случае, голова наутро болела так, как ей положено болеть не от коньяка, а от нормальной бормотухи.
«Ну и наплевать, – весело подумала Полина, судорожно, впрочем, сглатывая и морщась от подступающей к горлу тошноты. – До родника бы только доползти, потом до речки…»
А чего ей было грустить? Все, что весь год вызывало у нее раздражение и недовольство собою – глубокомысленная пустота вперемежку с деловитой мастеровитостью, которая сплошь ее окружала, – осталось за чертой лета. И каждый долгий ленивый день целого месяца, прожитого в Махре, был исполнен свободой – именно той, которую она любила: свободой рисовать, что рисуется, не понимать, что не понимается, и, в конечном итоге, никому в своем непонимании не отчитываться. Она получала такое удовольствие – просто физическое удовольствие, аж в носу щипало – от своего непонимания, которое с полной бесцельностью переносила на кусок оргалита, что жизнь впервые за целый год казалась ей прекрасной.