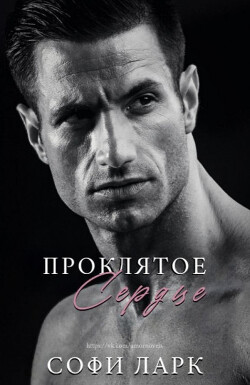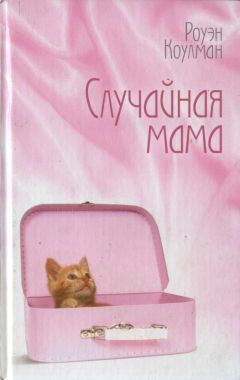Я украла у него сына.
Мой худший страх заключается в том, что когда-нибудь он может украсть его обратно.
Съемка окончена. Хьюго осторожно уложил змею обратно в ее гнездо внутри ящика. Айвори качает головой, глядя на меня.
— Не обнимай меня после того, как прикасалась к этой штуке, — говорит она.
Я улыбаюсь ей.
— Но ты так мило выглядишь в этом свитере. Такая уютная, так и хочется обнять…
— Даже не думай об этом!
— Ты хотя бы поедешь со мной на машине обратно в город?
— Да, — надменно говорит она. — Это еще допустимо.
Айвори и я дружим уже четыре года. Трудно оставаться рядом с кем-то из модельного мира — мы все так много путешествуем. Но, как правило, со временем ты работаешь с одними и теми же людьми, поскольку некоторые фотографы или агенты по кастингу рекомендуют вас для работы.
Я, наверное, единственный человек, который знает, что настоящее имя Айвори — Дженнифер Паркер, и она выросла не во Франции, как она любит говорить людям. На самом деле она канадка из маленького городка в Квебеке под названием Милль-Айлс.
Айвори говорит, что ей нужно создать вокруг себя мистику.
— Никому никогда не было бы дела до Мэрилин Монро, если бы она продолжала называть себя Нормой-Джин.
Я разбираюсь в секретах.
Я понимаю, что правда может быть настолько болезненной, что гораздо легче жить выдуманной жизнью, где любые вопросы, которые тебе задают люди, вообще не могут причинить тебе вреда, потому что все они — всего лишь часть повествования. Так легко говорить о себе, когда ничего из того, что ты говоришь, не является правдой.
Вот как я даю интервью.
— Какой у вас любимый цвет?
— Красный.
— Ваша любимая еда?
— Паста.
— С кем бы вы больше всего хотели бы пообедать?
— С Крисом Эвансом, конечно же.
Все это просто чепуха. Интервьюеров не волнует, что я говорю. Как и людей, которые читают глянцевые журналы. Супермодель Симона — это просто персонаж. Она — The Body. Никого не волнует, есть ли у меня мозг.
Мы с Айвори едем на одном такси обратно в центр города. Она высаживает меня у отеля «Ритц-Карлтон».
Я поднимаюсь на лифте прямо в свою комнату. Как только Генри слышит, как мой ключ поворачивается в замке, он подходит к двери. Он пытается напугать меня, но не получается, потому что я уже искала его, как только открыла дверь.
— Эй, ты, — говорю я, обвивая его руками и прижимая к своей груди.
Генри такой чертовски высокий. Ему всего девять лет, а он уже мне по плечо. Мне приходится покупать ему одежду двенадцатого-четырнадцатого размеров, и даже тогда в талии она велика, а брюки едва ли достаточно длинные.
— Я сегодня снималась со змеей. Хочешь посмотреть? — я показываю ему снимки, которые сделала на свой телефон.
— Это бирманский питон! — говорит он. — Ты знаешь, что они могут вырасти до двадцати футов?
— К счастью, этот парень был не таким уж большим.
— У них два легких. У большинства змей только одно.
Генри любит читать. Он помнит все, что читает, и все, что смотрит по телевизору. Мне пришлось сократить его время на YouTube, потому что он следовал своему любопытству по всевозможным кроличьим норам — некоторым, о которых я бы не хотела, чтобы он узнал даже через пять или шесть лет.
Теперь у него длинные руки и ноги, а лицо вытянулось. Трудно увидеть пухлого маленького мальчика, которым он был раньше. Однако кое-что осталось прежним — он по-прежнему нежный великан, услужливый, добрый и заботится о чувствах других.
— Чем займемся сегодня вечером? — спрашиваю я его.
— Не знаю.
— Ты сделал все свои школьные задания?
— Ага.
— Дай мне посмотреть.
Он подводит меня к маленькому гостиничному столу, на котором разложены его бумаги и учебники. Показывает мне главы, которые прочитал со своим репетитором.
Иногда, когда я знаю, что мы пробудем в одном месте какое-то время, я записываю Генри в одну из международных школ, просто чтобы он мог нормально общаться с классами и друзьями. Кажется, ему нравится, когда он там. Но ему, кажется, нравится любое место, куда бы мы ни пошли. Он такой покладистый, что я никогда не могу быть уверена, действительно ли он счастлив, или это все, что он знает.
Теперь у меня скоплено много денег. Достаточно, чтобы я могла перестать работать или замедлиться. Мы могли бы жить практически где угодно.
Вопрос в том, где?
Такое ощущение, что я побывала во всех городах мира. Но ни один из них не могу назвать домом.
В последний раз мои родители жили в Вашингтоне. После смерти Сервы отец занялся гуманитарной деятельностью. Он выступает посредником в какой-то крупной международной коалиции по борьбе с торговлей людьми. На самом деле, прямо сейчас он проводит пресс-блиц по всей стране.
Что ж, говоря о дьяволе.
Мой телефон звонит, высвечивается номер отца.
— Подожди, — говорю я Генри.
Я отвечаю на звонок.
— Симона, — говорит отец, его глубокий, ровный голос разрезает радиоволны между нами, как будто он находится прямо в комнате со мной. — Как прошла твоя сегодняшняя съемка?
— Хорошо. Думаю, они получили все, что хотели, так что, вероятно, сегодня был последний день.
— Превосходно. И что у тебя по планам дальше?
— Ну… — мой желудок слегка сжимается. Даже спустя столько времени. — Вообще-то у меня съемка для Balenciaga на следующей неделе.
— В Чикаго?
Я делаю паузу.
— Да.
— Так сказал твой помощник. Я рад это слышать, потому что мы с твоей мамой тоже будем там.
— О, отлично, — слабо говорю я.
Я итак уже боялась возвращаться в Чикаго. Я не была там почти десять лет. Идея встретиться там с моими родителями… меня не особо волнует. Слишком много старых воспоминаний всплыло на поверхность.
— Я провожу митинг, — говорит папа. — В поддержку Фонда свободы. Выступит мэр Чикаго, а также один из городских олдерменов. Я бы хотел, чтобы ты была там.
Я ерзаю на месте, переминаясь с ноги на ногу.
— Не знаю, папа… Я не очень разбираюсь в политике…
— Это благое дело, детка. Ты могла бы оказать свою поддержку чему-то значимому…
Опять эта нотка неодобрения. Он не считает мою карьеру значимой. Я одна из самых высокооплачиваемых моделей в мире, а он до сих пор считает это легкомысленным хобби.
— Просто посиди со мной на трибуне. Тебе не обязательно говорить. Ты же можешь это сделать, не так ли? — говорит отец самым рассудительным тоном. Это оформлено как просьба, но я знаю, что он ожидает, что я скажу «да». Я ощетиниваюсь от этого давления. Я уже давно сама по себе. На самом деле я не обязана делать то, что он говорит.
Но в то же время мои родители — это все, что у меня есть теперь, когда Сервы больше нет. Кроме Генри, конечно. Я не хочу нарушать перемирие между нами. Не из-за такой мелочи, как это.
Чикаго — большой город. Я могу поехать туда, не наткнувшись на Данте.
— Хорошо, папа, — слышу я свой собственный голос. — Я схожу на твой митинг.
Повесив трубку, я достаю телефон и нахожу фотографию Данте, которую хранила все эти годы. Я стараюсь не смотреть на него, потому что он выглядит таким свирепым и злым. Как будто он заглядывает мне в душу, и ему не нравится то, что он видит.
Я зависима. Иногда я сопротивляюсь месяцами. Но я всегда снова возвращаюсь к этому. У меня никогда не было сил ее удалить.
Я смотрю в его черные глаза. Эта свирепая челюсть. Твердые линии его рта.
Боль, которую я чувствую, сильна, как никогда.
Я выключаю телефон и отбрасываю его.
22. Данте