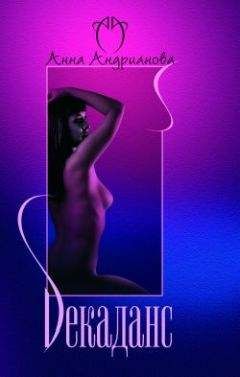В ее мечтах Кирилл был чутким и отзывчивым, уверенным в себе, но бесконечно ласковым и добрым. На деле… На деле же он оказался полной противоположностью себе придуманному. Наглый, бестактный, отвратительно нахальный, пошлый и беспринципный. Совсем, совсем не такой, как в Светиных мечтах! Но почему же она не оказалась разочарована? Почему ее не обидело его наглое заявление? Или вопрос? Или это была просьба? Или требование? Что это было, вот эти его чудовищные слова: "А слабо просто так, без всяких ожиданий и обещаний, просто потому что хочется, без выпендрежа? Один голый секс, грязный секс — и ничего более? Зная, что я больше никогда не приду, никогда ничего не попрошу и не предложу сам — слабо? Просто так, потому что хочется!" Что это было? Чудовищный цинизм, за которым прячется ранимая душа? Полноте, какая уж ранимая?! Он был предельно откровенен, искренен с нею. Он именно так и воспринимал то, чего хотел, что жаждал получить именно в ту минуту и неважно даже с кем. Просто он так захотел, и все. А ей слабо удовлетворить его желание? Он не настаивал — нет! Он просто интересовался: слабо?
Господи, до чего же это мерзко! И как это прекрасно! И пусть, пусть это больше никогда не повторится. Жаль, конечно, безумно жаль, но что поделаешь — жизнь тяжелая штука и ждать от нее справедливости бессмысленно. "Посчастливилось" уродиться на свет альбиноской — радуйся хотя бы таким крохам с барского стола, вернее, с Тамаркиного. По идее, ей и эти крохи не должны были достаться, просто несказанно повезло. Вот и надо относиться к эму, как к особому везению. Много ли еще везения ожидает ее в будущем? Много ли его было в прошлом? На сегодняшний день это ее единственный счастливый случай в жизни, единственный главный приз. И чего уж жаловаться, если главный приз оказался так мал — всего лишь парочка часов удовольствия в объятиях любимого мужчины. Ведь и этот приз запросто мог достаться другой счастливице, так что нечего пенять на судьбу. Ну, а что произошло все так буднично, не романтично… Что ж поделаешь? Занятой человек, ему не до романтики, не до праздничного антуража. Он и так уделил ей целых два часа драгоценного личного времени…
И потянулась нескончаемая череда серых безрадостных будней. Дом, работа, дом. В уютном некогда доме нынче было холодно и довольно мерзко. За окном — лето, жара, а в доме холодно и мерзко. Потому что холодно и мерзко в душе, потому что вместо сердца — счетная машинка, безбрежный айсберг, пожравший все чувства и эмоции.
Кирилл разучился улыбаться, радоваться жизни. Несколько оживал он только на работе, с головой погружался в бизнес, найдя там единственную отдушину. Выйдя же из офиса, становился механическим роботом. Словно по заданной навек программе ехал привычным маршрутом домой, а чаще в ресторан, потому что ужинать дома Тамара не любила.
В ресторане играла музыка, Тамара непременно напоминала супругу, что нужно бы с ней потанцевать, потому что сам Кирилл постоянно забывал об этом, потому что даже не слышал музыки, не замечал танцующих пар на танц-поле. Даже вкуса блюд не замечал, поедал все, что заказывала Тамара, опять же механически, просто жевал, просто глотал — потому что так было нужно.
После ресторана они ехали домой. Дома было привычно пусто и привычно мерзко, потому что там была Тамара и там был он. А где он, где Тамара — там холод и мерзость, там не может быть тепла, там не может быть ничего хорошего. Все тем же роботом Кирилл раздевался, привычным размеренным движением вешал брюки на специальную вешалку-прищепку, рубашку бросал в стирку. Едва успевал умыться, как хищная кошка уже безрадостно мурлыкала и так же механически, как и он, выполняла свою работу.
Противно, тошно было на душе. Одна радость — перестала всюду мерещиться девочка-одуванчик с мокрыми колечками, прилипшими ко лбу. Вместо нее теперь буквально всюду, на каждом шагу видел светленькие кудряшки взрослой женщины. Не очень красивой, малозаметной, какой-то словно бы полустертой, недопроявленной, словно некачественная фотография несказанной красавицы. Но отчего-то так гулко начинало стучать в груди, там, где вместо сердца — калькулятор, там, где айсберг, кажется, заморозил насмерть все чувства и ощущения. Но если заморозил, если насмерть — то что же там стучит, отчего его внутренний калькулятор словно бы проваливается в пустоту каждый раз, как мелькнет за окном машины чья-то светленькая головка?
Если раньше Кирилл ощущал жизненную необходимость быть рядом с девочкой-одуванчиком, на которую пусть немножко, но все же была похожа Света, сугубо для того, чтобы не пропустить момент опасности, чтобы уберечь ее от беды, от несчастья, от смерти, то теперь очень многое изменилось. Он уже не чувствовал опасности, грозящей Светлане, он уже перестал отождествлять ее с девочкой-одуванчиком, и казалось бы, должен был перестать мучиться, должен был элементарно забыть ее, совсем, напрочь выбросить из головы. Он ведь изначально знал, что Светлана лишь похожа на ту странную девочку из его далекого детства, что девочки-одуванчика больше нет, она умерла много лет назад практически на его глазах и даже по его вине. Да, именно по его вине, ведь если бы он тогда не отвернулся от нее из-за того, что ему стыдно было на ее глазах уплетать за обе щеки помидоры с хлебом и сливочным маслом, если бы он приглядывал за нею, он бы непременно увидел, что она зашла слишком далеко в воду, что вплотную приблизилась к роковому обрыву. И тогда… И тогда девочка-одуванчик и сегодня была бы жива. И кто знает, быть может, Кирилл никогда в жизни не вспомнил бы о ее существовании — ну подумаешь, ничем не примечательная девочка, слишком худенькая, слишком беленькая. Никакая, непроявленная, незаметная. Просто странная девочка. Да, наверняка бы не вспомнил. И не мучился бы всю жизнь, казня себя за то, что отвернулся, что не смог быть рядом, спасти, уберечь. За то, что с бешеным аппетитом уплетал за обе щеки чертовы помидоры.
Но он отвернулся. И теперь ничего невозможно исправить, девочку-одуванчик уже не спасти, она осталась в прошлом. И только теперь, когда Кирилл понял, осознал, что Света и девочка из его детства — совершенно разные люди, не имеющие друг с другом ровным счетом ничего общего, кроме белых пушистых кудряшек, он смог отпустить несчастную девочку. Или отпустить самого себя? Перестал хвататься за прошлое, перестал искать выхода, возможности изменить необратимое, вернуть утраченное. Он отпустил девочку-одуванчик в ее безвременье, в вечность. Пусть она навсегда останется маленькой и смешной девочкой с мокрыми веревочками-кудельками, прыгающими в такт ее резким движениям. "Бабка сеяла горох: прыг-скок, прыг-скок"… Покойся с миром, маленькая странная девочка без имени…