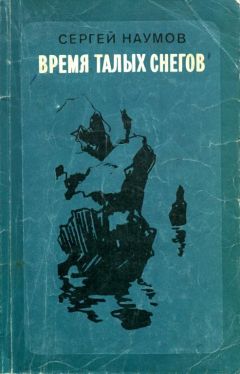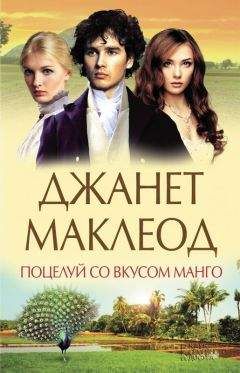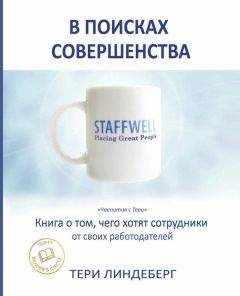Но Томик еще задержала его, быстро перекрестила и поцеловала.
И после этого мы по очереди вошли в серую дверь.
За ней оказалась просторная комната с серовато-белыми стенами и потолком, вся словно в мягком кружении первого снега. Посреди этого призрачного снегопада, однако, благополучно произрастали у стены два сочно-зеленых лиановидных побега, окаймляющих белую дверь. Справа от двери стоял блестящий стол с компьютером и какими-то приборами, усеянными кнопками и светящимися экранчиками. Из-за этого стола поднялась нам навстречу женщина в темно-бирюзовом брючном костюме с белой блузкой.
Ей было лет тридцать пять. Но это были, подумалось мне, тридцать пять лет счастливой жизни. Или по крайней мере пять лет счастливой жизни. Она выглядела и двигалась, как хозяйка дома в телеролике, рекламирующем новый мощный пылесос «Занусси». У нее были такой же радостный, на западный манер, взгляд и ухоженные волосы. Она легко обогнула стол, белозубо улыбнулась нам, и блестящая светлая прядь упала ей на лицо.
— Здравствуйте! Приглашены? — спросила она, стойко удерживая рекламную улыбку телезрителям.
— На десять тридцать! Редколлегия журнала «Литературный цех»! — отрапортовал Жорж вибрирующим от напряжения голосом.
Я невольно ожидала, что сейчас она, опять-таки на западный манер, воскликнет в легком потрясении: «Ва-у!»
Но женщина, перегнувшись через стол, нажала несколько кнопок, объявила в аппарат тоном доброй феи, притворяющейся секретаршей:
— Анатолий Петрович! Редколлегия журнала!
И по-видимому, получив короткую инструкцию, картинным жестом указала на дверь среди лиан.
Следующая комната выглядела на первый взгляд сумрачной. Стены в ней были разноцветные — две темно-серые, а две темно-сиреневые. Только приглядевшись, я поняла, что так по-разному преломляется свет от окна на рифленых серебристых обоях. На этом серо-сиреневом фоне сразу бросалась в глаза громадная картина в сине-оранжевых тонах: закат на фоне гор и силуэты альпинистов на горном склоне. Этот горный пейзаж, подумалось мне, выглядел бы уместнее в какой-нибудь туристической фирме, чем в кабинете высокого чиновника. Но может быть, Сам — страстный альпинист?
Кстати говоря, непонятно было, отчего все так тряслись: выглядел этот самый Сам вполне адекватным на вид мужчиной, пожалуй, слегка располневшим (нет, все-таки не альпинист!), с лицом вовсе не свирепым, а скорее даже печальным или, возможно, немного скучающим. Увидев нас, он несколько оживился: привстал за столом, пробормотал что-то вроде «угу, угу» и довольно приветливо кивнул в направлении стоящих у стены стульев. Похоже, ему понравилось, как мы послушно и быстро расселись. Он вышел из-за стола, прошелся туда-сюда, откровенно разглядывая всю компанию, и улыбнулся, отчего сразу помолодел и как-то подоступнел.
Затем он потер руки и весело объявил:
— Ну что ж? Начнем!
По этой команде все всполошились. Жорж рванул молнию на заветной папке. Молния взвизгнула и застряла. Он дернул пластмассовый бегунок. Что-то треснуло. Метелкина, забывшись, тихо ойкнула. Галушко прокашлялся, словно готовясь что-то сказать, но ничего не сказал. Жорж, побагровев, терзал бегунок. Чизбургер выдавил неестественным голосом: «Извините за технические неполадки!» И тут Томик протянула к папке руку и что-то нажала, после чего папка послушно распахнулась.
Замелькали файлы, страницы, подборки стихов. Заулыбались шаржи и пародии. Запестрели названия статей и рубрик.
Сам не спеша, заинтересованно разглядывал каждый листок. При этом он играл бровями: то приподнимал их, то сдвигал и бросал исподлобья цепкий взгляд, то многозначительно заламывал левую. Но что именно означала эта многозначительность?
Все мы как один, затаив дыхание, вместе с ним водили глазами по страницам и мучились запоздалыми сомнениями. «Не слишком ли игривое вступление? — читалось на умоляющих, испуганных, одеревеневших от напряжения лицах. — Несерьезно, несерьезно… Задора явный перебор. Да и Галушко со своими играми перемудрил! „Членения текста“, „структурные модификации“ — где это такое слыхано? Не статья, а горе от ума… а Метелкина-то додумалась — срифмовала „едва“ и „рокова“! И куда только смотрели?!»
Сам, он же Анатолий Петрович, не спешил. Он то водил пальцем по какой-нибудь строчке, то листал страницы назад, то бормотал: «Вот так, значит?» Временами он начинал было казаться добрым дяденькой, этаким своим в доску парнем — вот-вот хлопнет Жоржа по плечу и выскажется в том смысле, что, мол, — ну ты даешь, мужик! Ну молодец! Круто, ребята!
Но вдруг угол рта его кривился вниз, взгляд холодел, ноздри брезгливо вздрагивали — и мы леденели в ожидании чего-то ужасного, позорного, невыносимого…
Украдкой я покосились на Жоржа. Тот сидел очень прямо, откинув голову, неподвижный, словно сросшийся со своим стулом, и только на его виске пульсировала жилка. В текст он не смотрел.
А Сам тем временем постепенно приближался к концу рукописи. Вот он взял в руки лист с последней иллюстрацией, поднес поближе, отодвинул, высоко поднял и изогнул левую бровь. Томик постаралась на славу: здесь было и настежь распахнутое окно, и звезды меж облаками, и пленительных очертаний женский силуэт с распростертыми руками. А рядом была помещена… уж не эротическая ли новелла?!
Я вытянула шею, не веря собственным глазам. Кто, когда включил-таки ее в номер?! Но, отыскав взглядом Виталия, в тот же миг убедилась в ужаснейшем: тот сидел скромно сияющий, как именинник! Начиналось произведение словами: «Ее призывно торчащие соски…» Я закрыла глаза и окаменела.
Через некоторое время я услышала странный звук — что-то вроде легкого хлопка. Глаза открылись сами собой, и им предстало изумляющее зрелище: Сам тряс руку Жоржа, кивая и улыбаясь, как физрук при вручении грамоты за первое место в командных соревнованиях. Жорж старательно пытался улыбнуться в ответ, отчего его лицо мучительно перекашивалось.
— Ну что ж! В целом впечатление позитивное, — отпустив Жоржа, объявил Сам, и брови его безмятежно разошлись. — В общем-то определенная перспектива, безусловно, присутствует. Чувствуется концептуальность… э-э… художественного подхода… Так что будем изыскивать возможности в плане финансирования.
Не все сразу уловили суть начальственного сленга. Но постепенно лица посветлели и обмякли.
Жорж глубоко вздохнул, качнул головой, и взгляд его приобрел ясность и блеск. Томик, склонившись к его плечу, взирала на Самого почти нежно. Метелкина внезапно схватила мою руку и яростно сжала. А Валерий мягко и ненавязчиво возложил свою десницу на спинку моего стула. (При этом моя левая щека безо всякой на то причины вдруг резко потеплела.) И только Чизбургер, вернее, только Федор, по-прежнему угрюмо ссутулившись, смотрел в стол — очевидно, все еще не усвоил смысла происходящего.