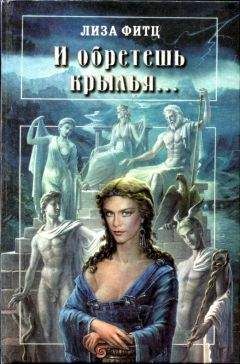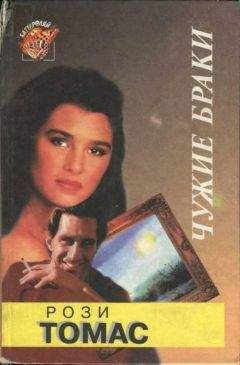Альфонс долго пребывал в изумлении перед широтой замысла Зебры. Ему никогда и в голову не приходило, что найдется безумец, который бросил бы вызов вечной тьме; правда, Гаспара простым смертным не назовешь.
Нотариус, вместо того чтобы готовиться к переходу в лучший мир, решил обеспечить себе продолжение жизни в сердце Камиллы. Он прекратит свое физическое существование, но это вовсе не означает, что он отказывается от своей роли любовника; иначе говоря, разве он не останется живым, пока Камилла будет любить его? Другого загробного существования он не искал, но, чтобы обеспечить его себе, не хотел пускать дело на самотек.
Сознавая слабость своего положения, при котором он будет гнить в земле под надгробной плитой, Зебра наметил план посмертных действий с целью продолжать обольщение своей жены. Особенно он опасался коварного соперничества остающихся в живых мужчин и, чтобы помешать им, твердо вознамерился непрестанно пробуждать у Камиллы мысли о себе.
– Ты должен будешь вместо меня ухаживать за моей женой, понимаешь? – убежденно прошептал он на ухо Альфонсу.
Гаспар уже воображал себя в шкуре deus ex machina,[13] дергающего нити и управляющего событиями с того света. Конечно, смерть внушала ему естественный ужас, но она, с другой стороны, придавала трагический характер его союзу с Камиллой, а уж об этом он заботился, как драматург, пекущийся о постановке своего произведения на сцене. Однако для осуществления плана нужен был здесь, в этом мире, сообщник, который помогал бы ему осуществить его замысел. Зебра опасался, как бы без такой поддержки любовь Камиллы не выродилась в тихую память, против чего он восставал всю свою жизнь. Смерть и тревожила-то его по-настоящему лишь потому, что он терял власть над единственной в его жизни женщиной; если бы удалось сохранить хоть частичку этой власти, пусть через своего сообщника, тогда он отошел бы в небытие со спокойной душой.
– Альфонс, даруй мне покой, представляй меня на грешной земле… – бормотал он едва слышным голосом из подушек, которыми был обложен в постели.
Альфонсу и раньше случалось дублировать Зебру в ту пору, когда тот прятался за анонимными письмами: он переписывал письма друга своим выработанным в школе почерком, чтобы Камилла не узнала руку мужа. Он же время от времени отправлял письма с центрального почтамта Лаваля, в частности когда нотариус уехал в Тулузу покутить с коллегами. Опять-таки он описал наряд Камиллы в письме Незнакомца, стараясь сбить ее со следа; но то, чего Гаспар требовал от него теперь, – это было совсем другое дело. Он колебался, так как был привязан к Камилле. И не мог решиться сделать еще более горьким ее грядущий траур.
– Ну не оставишь же ты меня в такой час! – шептал Зебра, вперив в друга тусклый взгляд.
Альфонс, испугавшись, дал свое согласие и поклялся выполнить все, чего требовал Гаспар, который замыслил подложить жене мину замедленного действия. Стало быть, дружба его с Альфонсом достигла высшей точки, когда один из них продолжает жить и за себя, и за покойного друга. Отныне Альфонс станет душеприказчиком своего собрата по мечте, будет выполнять его последнюю волю. Тяжкий долг он взял на себя с открытой душой, но без особой охоты. Он невольно проник в укромные уголки души своего друга, в котором видел призрак самых умопомрачительных любовников нашего века.
Зебра передал ему перечень инструкций, а также документы, согласно которым другу доверялась эта миссия; ему же вручил и письмо к детям:
– Ты передашь его Тюльпану и Наташе, когда пробьет мой час.
Последние две недели жизни Зебры стали для Камиллы вторым медовым месяцем. Гаспар наконец отказался от попыток прикасаться к ней и позволил себе быть безукоризненно нежным. Ни на минуту не оставлял он ее без внимания, ибо знал, что не надо рассеиваться, если не хочешь отдать Богу душу невзначай.
Камилле пришлось-таки повоевать и с дипломированными сиделками, и с врачами, которые во что бы то ни стало хотели, чтобы Зебру поместили в их умиральню; и она победила.
Зебра окончательно обосновался в доме Мироболанов. У него болело везде, но он от души смеялся, как будто близость смерти несла ему облечение.
Однажды после полудня, когда Зебра обучал Наташу восхищаться, слушая джаз с пластинок, звучавших со старого проигрывателя, в гостиную вошла Камилла. Зебра без всякого перехода тут же заключил ее в свои скелетоподобные объятия и стал с ней вальсировать на старинный манер. Наташа так никогда и не поняла, почему ее пробрала дрожь, когда родители зарыдали, обнявшись: девочка никогда не видела подобных интимных сцен между кем бы то ни было.
Гаспар, когда позволяли силы, выходил подышать сельским воздухом и насладиться осенней пышностью красок, которые он прямо-таки пожирал глазами. Как-то в сумерки он сидел с Камиллой на скалистом берегу реки, огибавшей их сад. И вдруг схватил руку Камиллы, сжал ее и долго держал в своих руках, полузакрыв глаза.
– Дай мне немножко жизни, – едва слышно попросил он, опасаясь, как бы жизнь не покинула его в ту же минуту.
Вновь обретенная нежность не мешала Зебре играть в старую игру. Например, недавно он изобрел состав лекарственных трав, который, по его утверждению, мог излечивать от холодности жен, не отвечающих на ласки мужа. В состав этот входили отвары полевых цветов. Наташа помогала отцу собирать цветы, а еще помогала воплотить в дереве последний плод неуемного воображения нотариуса; это было механическое приспособление для аплодисментов, и состояло оно из двух деревянных рук на шарнирах. С его помощью можно было аплодировать хорошему комику в театре сколько душе угодно и не бить при этом собственные ладони. Камилла сшила пару плюшевых перчаток на эти деревянные руки на случай гала-концертов. По словам Зебры, устройство годилось и для священников: руки в фиолетовых перчатках складывались как для молитвы…
Тюльпан, лондонский изгнанник, прислал отцу второе письмо, в котором опять-таки сообщал, что отцовская кровь в его жилах не остыла.
Так, например, он ставил Зебру в известность, что наступит день, когда его сын станет первым главой современного Всеевропейского государства, ни больше, ни меньше. Делая такое заявление, Тюльпан исходил из того, что для отца не существует невозможного. И рассуждал примерно так: профессии, на которые лицей ориентировал своих выпускников, ограничивают будущее поле деятельности слишком узкими рамками. При одной мысли о должности старшего бухгалтера у него возникала головная боль. Он желал «сыграть Императора», а так как трон Западноевропейской державы свободен, почему бы ему, Тюльпану, не примерить на свою голову корону Карла Великого. В конце письма он написал: «Папа, я этого добьюсь, потому что чувствую себя твоим сыном».