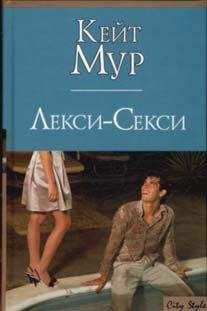Как и все ветераны, я хотел забыть о войне. Но не мог. Я злился, горевал и с отвращением думал о том, во что превратился. Не считая ночи, проведенной в небе над Швайнфуртом, я почти ничего не помнил, но война меня не покинула. До конца жизни сохранились раны, которые нельзя было увидеть, но и невозможно вылечить. Джо Торрей и Бад Рэмси, прекрасные люди, а я выжил, и совесть не давала мне покоя. Раны от шрапнели мешали ходить холодными зимними утрами, желудок так и не начал нормально работать. Я не пью молока, не ем пряных блюд, я так и не набрал утраченный вес. На самолетах я не летал с 1945 года, не люблю больницы и не могу смотреть фильмы о войне. Война и время, проведенное в госпитале, изменили мою жизнь навсегда.
– Ты плачешь, – говорит Рут.
В другое время и в другом месте я бы вытер ладонью слезы с лица. Но сейчас это невозможно.
– Я даже не заметил.
– Ты часто плакал во сне, – продолжает Рут. – Когда мы только поженились. Я слышала ночью, как ты плакал, и с ума сходила от жалости. Я гладила тебя по спине, успокаивала, и иногда ты переворачивался на другой бок и затихал. А иногда плакал всю ночь, а утром говорил, что сам не помнишь почему.
– Иногда я и правда не помнил.
Рут пристально смотрит на меня.
– А иногда помнил.
Я прищуриваюсь – образ подрагивает, как будто я смотрю на Рут сквозь волны теплого воздуха, который поднимается от асфальта летом. На ней темно-синее платье, в волосах белая лента, голос звучит так, словно она еще старше. Теперь Рут двадцать три года. Время, когда я вернулся с войны.
– Я думал про Джо Торрея, – говорю я.
– Твоего друга, – заканчивает она, кивая. – Того парня, который на спор съел пять хот-догов в Сан-Франциско. С ним ты впервые попробовал пиво.
Про сигареты я не говорил – знал, что она не одобрит. Рут всегда ненавидела запах табака. Я не соврал, просто умолчал – и давно убедил себя, что поступил правильно.
– Да, – подтверждаю я.
Утренний свет окружает ее сиянием.
– Жаль, что я с ним так и не познакомилась, – произносит Рут.
– Он бы тебе понравился.
Рут задумчиво покашливает и отворачивается. Она смотрит в залепленное снегом окно, погруженная в собственные мысли. Я думаю: машина стала моей могилой.
– Еще ты вспоминал госпиталь, – негромко говорит она.
Я киваю, и она устало вздыхает.
– Разве ты не слышал, что я сказала? – спрашивает Рут, поворачиваясь обратно. – Что мне это не важно. Я бы не стала врать.
– Намеренно – да, не стала бы, – отвечаю я. – Но может быть, ты временами лгала самой себе.
Мои слова ее удивляют, пусть даже только потому, что я никогда столь прямо не высказывался по этому поводу. Но я знаю, что прав.
– Вот почему ты перестал писать, – замечает Рут. – Когда тебя отправили обратно в Калифорнию, письма стали приходить все реже, а потом и вообще перестали. Я полгода не получала от тебя вестей.
– Я перестал писать, потому что помнил твои слова.
– Потому что ты хотел, чтобы мы расстались. – В голосе жены звучит гнев, и я боюсь смотреть Рут в глаза.
– Я желал тебе счастья.
– А я не была счастлива, – огрызается она. – Я не знала, что думать, мучилась и не понимала, что происходит. Я каждый день за тебя молилась и надеялась, что ты напишешь, но, открывая почтовый ящик, вновь ничего не находила, сколько бы сама тебе ни писала.
– Прости. Я поступил дурно.
– Ты хотя бы читал мои письма?
– Все до единого. И перечитывал не раз. Я пытался написать о том, что случилось, но не мог подобрать слова.
Рут качает головой.
– Ты даже не сказал, когда вернешься. Я узнала от твоей матери и решила встретить тебя на станции, как делал ты, когда я приезжала домой из колледжа.
– Но не встретила.
– Чтобы проверить, придешь ли ты ко мне. Но прошло несколько дней, потом неделя, ты не пришел в синагогу, и я поняла, что ты меня избегаешь. Поэтому я пришла в магазин сама и сказала, что нам надо поговорить. Помнишь, что ты ответил?
Я сожалею об этом больше, чем о чем-либо другом. Но Рут ждет, с напряженным видом, и не сводит глаз с моего лица. В ее взгляде читается вызов.
– Я сказал, что наша помолвка расторгнута и между нами все кончено.
Она поднимает бровь.
– Да. Именно так ты и сказал.
– Я тогда не мог с тобой разговаривать. Я…
Я замолкаю, и Рут договаривает:
– Ты злился.
И кивает.
– Я видела гнев в твоих глазах. Но не сомневалась, что ты по-прежнему меня любишь.
– Да, – признаю я. – Я тебя любил.
– Но мне было больно, – продолжает Рут. – Я вернулась домой и заплакала, как ребенок. Моя мама вошла в комнату, и мы долго сидели обнявшись. Мы обе не знали, что делать. Я уже многое потеряла. И не выдержала бы, если б еще и рассталась с тобой…
Она имеет в виду родных, которые остались в Вене. В то время я не понимал, как эгоистично себя вел и как выглядели мои поступки в глазах Рут. Воспоминания об этом тоже преследуют меня всю жизнь, и, сидя в машине, я испытываю стыд.
Рут, моя любимая жена, знает, что я чувствую. Она начинает с необычайной нежностью:
– Но если между нами все и правда было кончено, я желала знать почему. Поэтому на следующий день я пошла в аптеку, напротив твоего магазина, и заказала шоколадную шипучку. Я сидела у окна и наблюдала, как ты работаешь. Ты меня видел – но так и не подошел. Я пришла туда на следующий день и через день, и лишь тогда ты наконец решился.
– Потому что мама заставила, – признаю я. – Она сказала, что ты имеешь право знать причину.
– Ты всегда так говорил, но, думаю, ты и сам хотел со мной повидаться, потому что скучал. И потому что знал, что только я могу тебе помочь.
Я закрываю глаза. Рут права, конечно. Бесконечно права. Она всегда знала меня лучше, чем я сам.
– Я сел рядом. И мне тоже принесли шоколадную шипучку.
– Ты страшно похудел. Я подумала: придется снова тебя откормить. Чтоб ты стал таким пухленьким, каким был, когда мы познакомились.
– Я никогда не был толстым, – возражаю я. – Меня чуть не забраковали в военной комиссии.
– Да, но по возвращении от тебя остались кожа да кости. Костюм на тебе висел как на вешалке. И ветром тебя чуть не унесло, когда ты переходил улицу. Я задумалась, станешь ли ты когда-нибудь прежним. Я боялась, что не увижу больше человека, которого некогда любила.
– И все-таки ты дала мне шанс.
Рут пожимает плечами.
– А что оставалось делать? – говорит она, и глаза у нее блестят. – Ведь Дэвид Эпштейн к тому времени уже женился.
Я смеюсь, почти против воли, и в теле вспыхивает боль. Меня захлестывает тошнота. Я втягиваю воздух сквозь стиснутые зубы и чувствую, как волна постепенно начинает отступать. Рут ждет, когда я отдышусь, прежде чем продолжить: