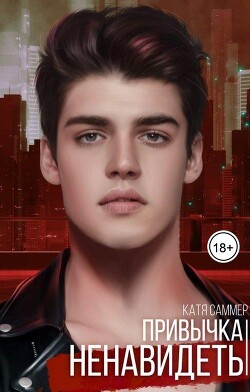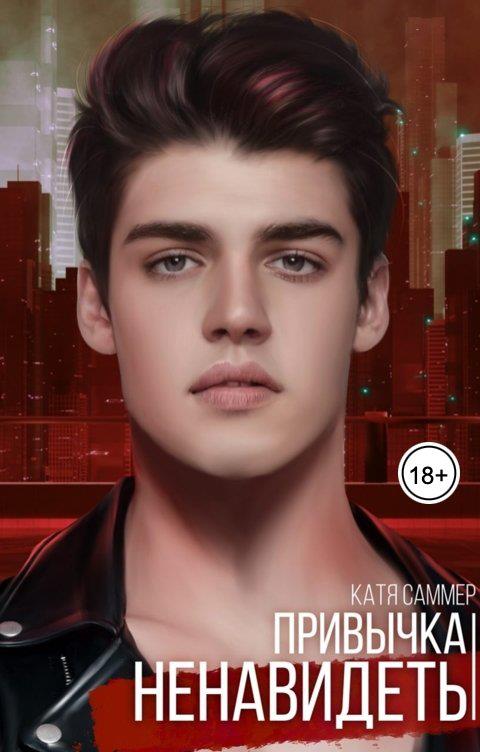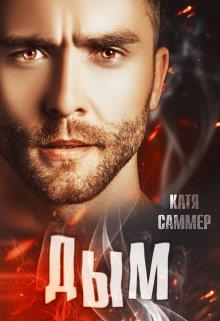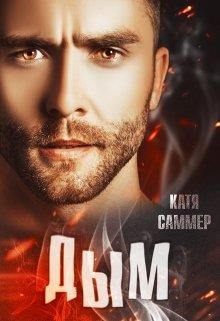— А вот с этого места подробнее. — Я сажусь ровнее, подтягиваю ноги к себе и, уперевшись локтями в колени, наблюдаю, как трезвеют у него глаза.
Остроумов какое-то время кажется испуганным, но затем выдыхает, будто сдается, отталкивается от земли. Не с первого раза, но встает на ноги, даже отряхивает джинсы, модник, блин. Достает из кармана пачку и протягивает мне. Я беру одну сигарету, поднимаюсь следом, подкуриваю у него.
Вокруг правого глаза у Саввы выступает синяк, а судя по боли в челюсти, у меня видок к утру тоже нелучший будет — тренер нас просто уроет. Остроумов заправляет за уши отросшие волосы, которые, как дебил, осветляет, делает тягу и пускает кольца дыма, а потом громко ржет. На пустой улице, освещенной лишь одним жалким фонарем, его голос отражается эхом, звучит гулко и немного жутковато.
— Я люблю ее, — говорит то, что убивает меня наповал. Всего три слова, восемь букв, а мир уже не будет прежним. Савва, которого я с детства знал, вряд ли останется мне другом — я хорошо понимаю. Не после того, как ненавидел меня два года за то, что Софа сделала свой выбор.
— Ты говорил, что это не проблема.
— Врал, — с очередной тягой спокойно выдыхает он.
— Зачем?
— Чтобы ты не смотрел на меня так, как смотришь сейчас.
— Как?
— С жалостью, — он брезгливо кривит губы. — Ненавижу жалость.
Остроумов отлично подмечает, потому что, несмотря на всю мою злость, я и правда жалею его. На хера, как говорится?
— Почему сейчас совершил каминг-аут?
— Каминг-аут я бы совершил, если бы при пацанах признался в любви тебе, тупица.
Я закатываю глаза и ухмыляюсь с привкусом горечи.
— Так почему? Зачем ты открылся сейчас?
— А что мешает? — Он жмет плечами. — Диплом позади, все закончилось. Нас больше ничего не связывает. Больше не нужно притворяться, что мне приятно видеть вас двоих вместе.
Вот только мы с Софой больше не вместе. Савва, видимо, не в курсе.
— У вас что-то было?
И еще прежде чем он что-то мне скажет, я понимаю, что не хочу слышать ответ.
— Не после того, как вы начали…
— Значит, было, — я киваю, упорядочивая информацию в голове. Софа говорила, что до меня у нее был парень, который ее всему научил. И охренеть не встать, если это Остроумов. — Ты был у нее первым?
— Ага, — легко бросает Савва и шипит вместе с сигаретой. — Сука, она засела вот здесь, — он рычит сквозь стиснутые зубы и стучит по виску. — Шиза какая-то.
Теперь для меня все логично выстраивается, потому что я никогда не верил, что Остроумов подсирает мне из простой зависти. Все гадал, где и что упустил, а сейчас четко вижу, что все у нас было ровно как раз до нашего знакомства с Софой. Мы зацепились с ней в универе на отработке. Пока все драили полы, Софа с гордым видом сидела на подоконнике и взирала на мир свысока. Тогда мне понравилась ее уверенность, мягкая улыбка и неприкрытый сарказм, которым она осадила мой нелепый подкат.
Она мне понравилась, но все могло закончиться там же, если бы Савва не зарядил, что она и ему интересна. Это была игра, которую, видимо, мы все проиграли. Если бы хоть кто-то был полностью честен, этих отношений могло и не случиться. Но я не знал. Мне казалось, они ненавидят друг друга после всего — еще одно доказательство, что ненависти без любви и сильных эмоций не бывает. Ей просто нечем питаться, если всем по хер на все.
Я сглатываю горечь. Чувствую себя тупо, потому что не знал правду, а они держали меня за дурака. Я зол, и меня дико вымораживает поведение Саввы: он выбрал самый тупой момент для признаний, еще бы перед финалом в Сочи вывалил все. Не знаю, что теперь будет дальше. Не уверен, что хочу, чтобы что-то вообще было.
— Поехали спать. Завтра будет плохо, — зову я его, махнув головой в сторону бара.
— Не хуже, чем было все это время, — отвечает он в пустоту ночи.
Игру на следующий день мы вытягиваем с трудом. По большей части благодаря Илье, который удерживает защиту и подменяет меня в роли капитана, когда мне показывают желтую карточку и удаляют с поля в последние десять минут игрового времени за повторное нарушение правил. А после матча Василич отчитывает нас, как малолеток, и орет, что даже видеть не хочет, но по итогу толкает речь насчет выхода в финал и шанса для каждого.
Что я чувствую? Не знаю. Ни-че-го. Какую-то пустоту. Мне будто душу отделили от тела, и я больше не способен что-либо ощущать. Скажи-ка вообще, мама, как говорил один умный мужик, сколько стоит моя жизнь? Жизнь, в которой ничего ценного нет. Где все, кто был когда-то дорог, уходят, отдаляются, становятся чужими. Где я уже растерял всех на половине пути. И что будет дальше? Что будет дальше, когда я останусь один? Неприятная дрожь пробегает по позвоночнику, потому что, по всей видимости, я этого боюсь. Полного одиночества. Как бы ни пытался себя убедить, что переживу, я этого… я не хочу.
Вечером, едва командный автобус тормозит на повороте к Солнечному, я, бросив парням короткое «пока», слетаю со ступеней и топлю от нетерпения вперед.
— Бес! — летит мне в спину. Книжник зовет. Он выскакивает за мной и посылает возмущенного водилу, который спешит развезти всех по домам. — Друг, слушай… — он медлит, мнется, я вижу, и это так не похоже на него. — Я не в курсе всего, но, клянусь, я ни хрена не знал.
Дэн в своем репертуаре. Мимо него проходит так много.
— Я понял, — отвечаю спокойно.
— Ян, ты… если тебе что-то нужно… Пацаны видели тебя с тачками, и если нужно бабло или…
— Я понял, спасибо, — киваю ему. — Правда, Дэн, все норм. Не забивай себе голову.
Снова разворачиваюсь, чтобы уйти, когда он снова застает меня врасплох.
— А что будет? Дальше?
Дэн выглядит потерянным. Не видел его таким, и это напрягает.
— В смысле? — не совсем понимаю я.
— Ну со стаей. С нами. После выпуска.
Наивный добрый Дэн. Ничего. Все уже закончилось.
— Нет больше никакой стаи, — произношу слишком легко.
Я ухожу. Ускоряюсь с каждым шагом. Мчусь, лечу, бегу. Потому что хочу почувствовать хоть что-то, а рядом с ней это всегда запредельно. Потому что не хочу подохнуть, как дворовая псина, совсем один. Я хочу жить, как бы сука-смерть не кружила вокруг нашей семьи и не царапала мне горло когтями.
Не ощущаю времени — как будто я моргнул и уже стою на пороге. Колочу в соседскую дверь изо всех сил, и кажется, скоро или выбью ее, или разобью костяшки о дерево в кровь. Уже собираюсь наплевать на все и пробраться через чертов чердак, когда мне наконец открывают.
— Молодой человек, вам здесь не рады, — с хитрой улыбкой, которая может значить ровно противоположное, говорит мама Ланской, но мне по хер, что она болтает, я высматриваю за спиной только ее.
— Позовите Мику, — прошу, а сам молюсь всем гребаным богам, в которых не верю, чтобы она вышла ко мне, и… вижу. Ее. Она замирает на нижних ступенях и испуганно смотрит на меня. Будто не верит, что я здесь, будто я привидение.
Черт возьми, как же сильно я скучал!
Я ныряю под руку мадам, которая нагло преграждает мне дорогу и лечу, бегу, мчусь к Мике. С разгона врезаюсь в нее. Бьюсь грудью о ее грудь, чтобы сердце почувствовало, узнало, успокоилось, и его не разорвало от тоски. Я крепко прижимаю Ланскую, наплевав на целый мир, и просто выдыхаю все существующее в моей жизни дерьмо.
— Ты здесь, — с опаской произносит она, осторожно поглаживая мою спину.
— Прости, мне нужно было.
Не могу объяснить что, да даже не пытаюсь в надежде, что она все поймет.
— Все плохо? — легко догадывается.
— Да, — говорю, и она обмякает. — Было до этого момента.
— Я могу чем-то помочь?
Ты помогаешь тем, что существуешь такая.
— Не сейчас, — тихо шепчу я, через боль и стекло по венам отпуская ее. Целую коротко в нос, даже, скорее, просто мажу губами по коже и касаюсь лбом ее лба. — Не сейчас, — повторяю и с кивком Ланской так же быстро, как пробрался, покидаю их дом.
У себя первым делом достаю из кладовки дорогой вискарь и падаю на диван, включив тихую, но долбящую музыку, чтобы ужраться в хлам в честь похорон прежней жизни. И я очень надеюсь, завтра утром начать новую — лучше, честнее, счастливее, если быть счастливым мне вообще суждено.