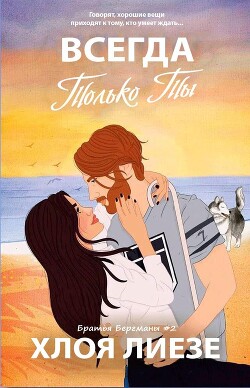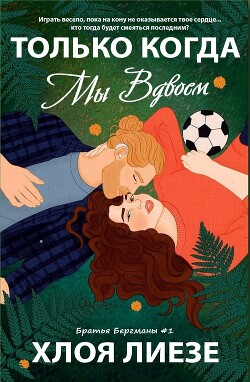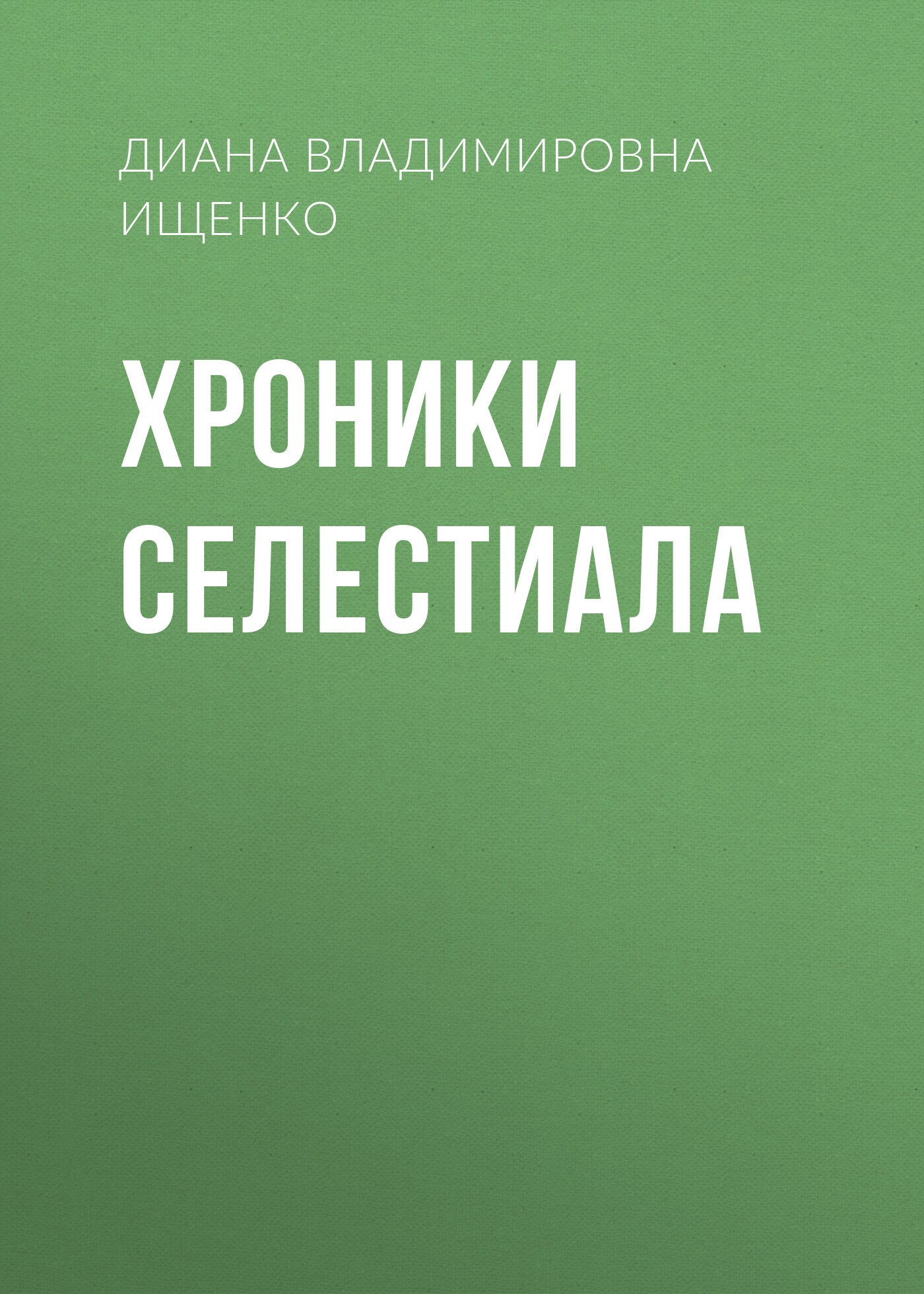Она гортанно смеётся и ерошит мои волосы.
— Добро пожаловать на тёмную сторону, Зензеро.
Я встречаюсь с ней взглядом, всматриваясь в её лицо.
— Ты сказала, что хочешь настоящего Рена. Это взаимно? Это означает, что я знаю настоящую Фрэнки?
Её улыбка на мгновение скисает, пока она накручивает прядь моих волос на кончик своего пальца — раз за разом, размеренным, успокаивающим движением.
— Да, думаю, что так. Лучше большинства людей, во всяком случае, — она поддевает меня. — Перестань уходить от ответа.
Повернув голову, я наблюдаю за созвездиями.
— Настоящий Рен — до сих пор немного неуверенный в себе и неприкаянный.
— Почему?
Я пожимаю плечами и поднимаю руку, показывая, что хочу ещё одну затяжку.
— Кто знает, — я аккуратно делаю ещё одну маленькую затяжку косяком, возвращаю его Фрэнки и говорю, выдыхая: — В детстве я был неуклюжим в общении. Потом, когда я учился в старших классах, мы переехали, и мне пришлось начинать сначала, пытаться завести друзей. Я так и не нашёл свою колею.
— Пока не появился хоккей?
Я улыбаюсь звёздам.
— Да. На льду я счастлив. И я действительно лажу с парнями. Им нравится моя чудаковатость. Не знаю, наверное, я чувствую, что меня принимают.
— Это важно, — тихо говорит Фрэнки. — У меня есть такое с Энни и Ло. Без них я была бы несчастна.
Я поворачиваю голову и смотрю на неё.
— А что насчёт твоей семьи?
Фрэнки пожимает плечами.
— Ну. Я люблю свою сестру, Габби, но в нашем детстве она была той ещё засранкой. Я была её младшей сестренкой, вечно создающей проблемы и закатывающей истерики, поэтому ей казалось, что её игнорируют. Мы по большей части оставили это в прошлом, но мы всё равно очень разные люди, которых разделяет целая страна. Для мамы я ходячая бомба с часовым механизмом, и с каждым шагом я ближе к тому, чтобы развалиться на куски. Бабуля спокойно относится к артриту, но она не понимает аутизм. Я свожу её с ума тем, что не слежу за языком. Раньше я ставила её в неловкое положение в церкви и в кругу её знакомых. Я и католическая церковь не очень ладим, а для бабули это вся её жизнь.
— А твой папа?
Она смотрит на песок, медленно водя пальцем по поверхности.
— Он умер, когда мне было двенадцать. Отчасти поэтому мама так тревожится из-за меня. Она так и не смирилась с его потерей. Он был пожарным, и когда он погиб на работе, это лишь усугубило её тревогу из-за благополучия её семьи, если ты понимаешь, о чём я.
Я аккуратно прижимаю ладонь к её руку, вожу костяшками по её пальцам.
— Мне жаль.
Её пальцы медленно играют с моими.
— Ничего страшного. Я всегда буду скучать по нему, но через какое-то время боль притупляется, — она вздыхает, тушит остатки косяка и кладёт рядом со своим чаем. — Итак, расскажи мне про Шекспировский Клуб.
Я склоняю голову набок, сбитый с толку переменой темы.
— Что именно?
— Что тебе в нём нравится. Почему ты всё ещё состоишь в нём, — она отпивает чая и смотрит на океан.
— Ну, всё началось в старших классах. Пара чудаков вроде меня, которым нравилось читать и разыгрывать эти слова из времени, когда язык имел кое-какое значение… когда люди не бросались друг в друга словами так просто, или, не знаю, может и бросались, но хотя бы делали это креативно.
— Отсюда и старинные ругательства.
К моим щекам приливает жар. Я не то чтобы смущён, но я делал это не с пониманием, что кто-то слушает.
— Ты заметила.
Она улыбается и ставит свой чай.
— Думаю, моё любимое на данный момент — «гульфик со сваренными мозгами».
— Ну это выполняет свою задачу. Мне не нравится материть людей, особенно на публике. Может, это прозвучит чрезмерно, но я чувствую вес каждого маленького фаната, который смотрит меня, и родители которого читают то, что я говорю в письменных статьях. Я… наверное, я хочу это уважать. И всё же в какой-то момент надо выпускать пар, понимаешь?
Она кивает.
— Шекспировский Клуб помогает тебе не забывать выражения. Я знаю кого-либо, кто является членом вашего разношёрстного сборища?
Я опираюсь на локти и делаю большой глоток чая, избегая её взгляда.
— Не могу сказать. Это секрет.
Когда я поднимаю взгляд, её глаза блестят, а губы изгибаются в лёгкой улыбке.
— И как же кому-либо получить доступ к этому эксклюзивному собранию?
— Ну, сначала его или её должен пригласить один из действующих членов. А потом нужно продекламировать свои любимые строки из Шекспира.
— Звучит вроде как просто.
— О, это ещё не всё. Членство зависит от аутентичности, от слов, произнесённых от самого сердца. Нужно произносить их всерьёз, так, будто они имеют для тебя значение.
— Почему? — спрашивает Фрэнки.
— Так обеспечивается безопасность. Если кто-то присоединится и привнесёт пренебрежительную атмосферу, это всё испортит.
— Ну, может, тогда мне пора освежить в памяти Барда.
Я резко поворачиваю голову, чтобы посмотреть ей в глаза.
— Т-ты бы хотела прийти?
— Может быть, однажды. Звучит здорово. К тому же, мне кажется, ты очень убедительно читаешь Шекспира. Мне надо это увидеть.
Мои щёки распаляются ещё сильнее.
— Я в этом не уверен, Фрэнки.
— Почему нет?
— Потому что…
«Тогда ты увидишь меня во всём моём чудачестве. В моей абсолютной придурковатости».
— Я стесняюсь, — оправдываюсь я.
Она закатывает глаза.
— Рен, позволь мне кое-что тебе сказать. Любой, кто видел, как ты наслаждаешься своим театральным хобби, и подкалывал тебя из-за этого, не стоит твоего времени. Мой психолог говорит: покажи людям, кто ты на самом деле, и получишь абсолютное удовольствие, зная, что они любят тебя таким, какой ты есть. Поэтому у меня мало друзей, но они знают и любят настоящую меня.
«Ты знаешь настоящую меня», — как будто говорят её глаза, пока она смотрит на меня.
Моё травмированное плечо болит от того, что я опираюсь на локоть, и я ложусь на одеяло, огорошенный и её словами, и болью, пронзающей моё тело. Фрэнки проводит ладонью по моей руке до плеча. Когда она массирует его, разминая ноющие места своими пальцами, у меня вырывается рокочущий стон.
— Приятно? — спрашивает она.
— Угу, — мои конечности сделались тяжёлыми, мысли успокоились. Я чувствую себя безвольной тушкой в её руках.
— Хорошо. А теперь давай послушаем, почему ты прячешься за фасадом хорошего парня.
— У меня такое чувство, будто я на допросе.
Она улыбается.
— Я пользуюсь твоим расслабленным состоянием. Ты вечно такой бодрый и весёлый, — её палец тычет в мою щёку там, где видна ямочка, если нет бороды. — Мне нужны грязные подробности, Зензеро.
Я бросаю на неё притворно суровый взгляд, но впечатление рушится тем, что она снова массирует моё плечо.
— Грязные подробности в том, что я поздно «расцвёл». Затем, когда я поступил в колледж, как будто возмужал и нашёл себя в хоккее, люди начали относиться ко мне иначе. И я не знал, что с этим делать. Я был тем же, кем и всегда, но теперь должен чувствовать себя иначе, потому что выглядел определённым образом и подпадал под некоторые социальные мерки успеха?
Её пальцы на мгновение замирают, затем нежно возобновляют движения.
— Продолжай.
— Да на этом и всё, собственно. Я просто нашёл своё место с шекспировскими задротами и игрой в хоккей. И я до сих пор пытаюсь понять, как быть собой и оставаться «своим» в обоих этих мирах. Этот фасад «хорошего парня», о котором ты говоришь — попытки защитить себя от неверного выбора.
— У тебя были отношения, в которых ты мог быть всем выше перечисленным?
— Нет.
— Плохие отношения?
— У меня никогда не было серьёзных отношений, ни плохих, ни хороших.
— Ах, — говорит она. — Значит, перепихи. Да, они заканчиваются прежде, чем вы успеваете узнать друг друга.
Я смотрю в ночное небо, готовясь к её реакции на мои слова.
— И перепихов тоже не было.
Её пальцы замирают. Она опускает руку.